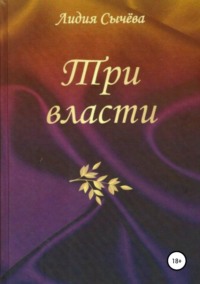Полная версия
Мёд жизни
А дело было так. Этот Петька на заре туманной юности женился, построил хату, провел газ, родил ребенка, прожил четыре года и ушел. Жене, правда, всё нажитое добро оставил – в обмен на свободу от алиментов. Туда-сюда, пошатался он бесприютный, и женился на другой (пристал в зятья). Обложил её хату кирпичом, провел газ, починил заборы и после некоторого раздумья родил в этой семье дочку Анечку. Но баба новая оказалась злостной алкоголичкой, совершенно невменяемой, её лишили родительских прав, и он её, естественно, бросил. А дочку Анечку навесили на него, и Петька, понятное дело, вскоре снова женился.
Новой супруге он первым делом провел газ, построил сарай, покрыл шифером веранду, но долго на этом месте не задержался – ушел. Поскольку приглядел себе уже новую супружницу, и опять же с этой Анечкой пристал к ней. И здесь он провел газ (Петька работает сварщиком, профессия очень выгодная для одиноких женщин, у которых печное отопление), кое-чего помог по хозяйству, и всё-таки не удержался, сбежал.
После этих двух промежуточных баб пристроился он в зятья к Светлане Петровне, наивной и простоватой женщине, которая нынче мне все нервы вымотала. Она плачет, а я ей говорю: «Что вы творите?! Вы видите, я при вас валерьянку себе капаю, двойную дозу?!»
А суть в том, что распутный Петька дом своей новой жене достроил, газ, опять же, провел, машину – старую «копейку» – купил, и Светлана Петровна родила ему сына Колечку. Младенцу сейчас год и семь месяцев. И в разгар этой семейной идиллии Петька возьми и уйди! Потому что суть его – кобелиная, режь, стреляй, но он ни с одной бабой не может жить дольше четырех лет. Четыре года – предел, максимум.
А дочка его, Анечка, она к Светлане Петровне уже прикипела и кричит: «Никуда больше не пойду!» Дитё ж оно тоже умарывается бегать по семьям, «мам» менять! Ну, Светлана Петровна и говорит: «Пусть Анечка у меня живет». А у самой – дочь от первого брака, Анжела, младенец Колечка, и эта к ней жмется, которая ей, считай, никто. А жить им всем на что?! Сама Светлана Петровна торгует на рынке беляшами (от хозяина).
Всё бы ничего, но я вижу, что хочет она этого беспутного Петьку детьми шантажировать. Надеется, что в нём совесть проснётся. А я ей говорю: «Дорогая Светлана Петровна! Ничего у вас не получится, он абсолютно бесстыжий человек, живёт только кобелиными удовольствиями, а о детях ему хоть трава не расти. Зачем вы Колечку рожали?! Вы что, думали, что вы лучше четырех предыдущих жен будете?» А она: «У нас пятнадцать лет разница. Петя на коленях передо мной стоял, умолял: роди мне сына, наследника, я тебе и машину куплю, и газ проведу».
Ну правильно, мужик – не промах: зачем ему на ровне жениться, он выбрал бабу помоложе, а одногодка ему, понятное дело, уже никого и не родит. «Светлана Петровна, – пытаюсь я вразумить жертву брачного аферизма, – давайте рассуждать логически. Супруг ваш все свои обещания выполнил: газ провел, дом достроил, машину купил (потом меня Светлана Петровна до рынка на ней и подвезла). Он что, клялся вам в вечной любви до гроба и в лебединой верности?!» Она глазами хлопает и говорит: «Такого не было…» – «Ну и чего ему кручиниться?!»
Ладно. Спрашиваю я у этого бесстыжего Петьки: «Почему вы ушли из семьи?» Он и запел: «Я хочу свободы, я, как человек, ещё и не жил, а мне 50 лет уже…» А сам снял дом, чтобы встречаться с молодухой. Анечке с Колечкой на 1 сентября ничего не дал, а новой подруге – шампанское, конфеты… Денежки-то водятся, он мужик рабочий.
А про новую «возлюбленную» как выяснилось? Анечка в жизни настрадалась и потому за отцом стала приглядывать, шпионить. И когда он с бригадой тянул газ по улице Матери и Ребенка (есть у нас такая – нарочно не придумаешь!), девочка и предупредила мачеху, что, мол, папка как-то не так к одной тёте «тулится». А вскоре он съехал, сказал, что жить в таком ужасе («без любви») не может, и снял себе дом.
И вот Светлана Петровна взяла Анжелу с Анечкой и пошла в эту хату. Дом закрыт, они залезли в форточку, сели тихо, поджидают хозяина. А тут и молодуха объявилась, открывает дверь своим ключом. А в руке у неё – пакетик с цветным кружевным бельем «Дикая орхидея».
Ну Светлана Петровна круто с ней поговорила и прогнала эту пассию вон, а кружевное белье в гневе изорвала в клочья. Она-то – жена законная (Петька теперь говорит: дурак я, расписался с ней!). Сидят они дальше. Тут и сам кобель заявляется. Как она его не устыжала, он ноль эмоций: «Я сказал, не вернусь к тебе, и всё тут!»
Что делать? Я Светлане Петровне внушаю: ну вы подумайте, зачем вы Анечку на себя вешаете?! Она вам ещё даст оторваться, наследственность-то какая: мать – алкоголичка, отец – с кобелиными наклонностями. Анечка войдет в возраст, вы с ней сдуреете. У вас своих двое, их поднимать надо. А за Анечку вам даже платить не будут – она вам никто. «А вдруг Петя одумается, вернётся?! Тут у него и сын, и дочь…»
Я говорю: «Светлана Петровна, дорогая! Ну он же бродячий пёс, у него все домашние инстинкты убиты! Не вводите себя в иллюзии. Единственное, на что он годен – это газ проводить, его бы куда-нибудь в Нечерноземье направить, в отдаленные районы. Может, там дело, наконец, с мертвой точке сдвинется, всё какая-то польза людям!»
В общем, выпили мы пузырек валерьянки на двоих и разошлись каждый при своем мнении. А Петька что ж, за него и переживать не надо – не пропадёт. Он как переходящее красное знамя – его из рук в руки рвут! Это у меня дома «валух», у телевизора день и ночь лежит…
В дождь
– Погода отвратительная, – говорила старшая сестра. Она была настроена решительно, но растворимый кофе в фаянсовой чашке размешивала бережно, аккуратно, боясь расплескать напиток.
Оля любила эту чашку – голубые колокольчики на толстостенных боках, ручка – крендельком, и радовалась, что сестра выбрала именно её.
Весь день, с утра, без перерывов, на улице шел дождь, упорно, бодро, будто выполнял чьё-то задание и потому не мог остановиться на полпути. Дождь был осенний, серый, тёплый, а день – безветренный, влажно-туманный. Дали были закрыты дождевыми завесами, они шли уступами от неба до земли, и казалось, что весь мир помещён в огромный дождевой дворец, в котором открываются всё новые и новые залы.
В Ялте, наверное, было солнечно и ясно, там аквамариновая волна, нагретая галька и раздольный полёт чаек, в деревенской России бабье лето – с танцующими паутинками, с рыжими косогорами и валками соломы на полях, а здесь, в Москве, дождливый день – с красными, будто обожжёнными, кленовыми листьями на тротуаре, с тёмно-зеленой ивой под окном, с тяжелым веером серых брызг на дороге, с набрякшими зонтами на бульваре – они, как грибы, возникали то тут, то там. Но прохожих немного – день выходной, а куда ж идти в такой дождь?!
Оля хлопотала на кухне. Она любила сестру, но скрывала нежность напускной беспечностью, боясь растрогать её своей чувствительностью. «Какой чудесный день! – думала она. – Мы вместе. Это такая редкость!.. Мы в тепле, уюте, пьём чай с булками и с повидлом из яблок. (Варенье привезла сестра.) А яблоки собраны у родного дома. Это же совсем другие яблоки, немагазинные. Редкий промежуток, когда наши близкие живы и здоровы и мы говорим не про их болезни и скорби, а про всякие пустяки. Боже! Какое же это счастье – длинный дождливый день!.. Да ведь такого дня я и припомнить не могу, если честно!..»
Но вслух она сказала другое:
– А я люблю такую погоду. Под неё хорошо думается, особенно в деревне, если, конечно, срочная работа сделана до дождя и тебя не тревожит ни сено, ни огород, ни крыша на сарае. Хорошо тогда смотреть в окошко, в палисадник с фиолетовыми астрами, хорошо думать, отвлекаясь от зачитанной старой книги, хорошо вспоминать прошлое, счастливые мгновения (как здорово, что они были, никто их у тебя уже не отнимет!), и надеяться на чудесное… Мысленно она добавила: «Надеяться, даже если жить осталось совсем немного. И встречать каждый день, как великое счастье!»
По выражению лица Оля увидела, что её рассуждения кажутся сестре странными, если не глупыми, и поспешила переменить тему:
– А где твой кожаный плащ?
– Висит. Иногда я его ношу, но вообще он мне надоел.
И Оля тотчас вспомнила другую осень. Стояла несусветная грязь, с низкого неба шла противная морось. Сестра провожала её на автостанцию. Оля уезжала на междугородном автобусе в Москву. У неё тогда была интересная работа, кипучая жизнь, загранкомандировки, а сестра оставалась в провинции, среди грубого быта, скуки, связанная родственными обязательствами… Оля, глядя из окна автобуса на одинокую фигуру в кожаном плаще, не смогла сдержать слёз – сердце её защемило. И, каждый раз, возвращаясь к этому воспоминанию, она испытывала перед сестрой чувство вины.
После чая, невзирая на дождь, они пошли по магазинам – сестра хотела купить что-то потеплее, чем лёгкая куртка, что была на ней. Они перемерили кучу пальто. Ничего не подходило – одни были малы, другие велики, третьи – коротки, четвертые – не по фигуре, пятые – не того цвета. Обошли три магазина, вымокли, хотя всё время были под зонтами. Обе измучились, устали. Надо было возвращаться домой, собираться на поезд.
И всё равно Оля была счастлива. Её казалось, что звучит симфония дождя, что в величественном дворце природы играет великий пианист – Лист, например; и оттого, что слышит всемирную мелодию, она сопричастна её минору, и так по-хорошему сентиментально было у неё на душе, так неповторимо!
«Никогда, никогда больше в моей жизни не будет такого дождя!..»
Сестре же она говорила другое:
– Послушай, у Веры (дочери) целый гардероб вещей, которые она не носит. Давай посмотрим, может, что-то подойдёт. Не хочу, чтобы в дождь ты мёрзла.
– Да-да, – соглашалась сестра.
Но ей непременно хотелось купить сегодня что-то новое – раз уж вышли по магазинам в такой дождь. Сестра выбрала шляпу – вишнёвую, классической формы, из отличного фетра и, на удивление, очень дешёвую. Оля из солидарности купила модную кепку и тоже почти даром. Они смотрели в тонированное зеркало, подсвеченное с боков. Покупки их обновили – сёстры походили на удачливых авантюристок.
– Ну вот мы и в Париже! – смеялась Оля, убирая чёлку под козырёк кепки.
Сестра загадочно улыбалась – она заразилась её настроением.
И снова шёл дождь, вода струилась по тротуарам, в потоке кружились лимонные и багряные лодочки облетевших листьев, и терпко пахло дубовой корой, когда они шли через маленький старый парк, и непонятно было, что сейчас – день или вечер? – от долгого дождя затуманилось небо, сумрачные тучи скрыли солнце.
Они купили колечко пахучей белорусской колбасы. И снова сидели на тесной кухне, обсуждали погоду, детей и будущее.
– Зачем столько тряпок? – ахала сестра, перебирая вещи племянницы «на отдачу».
– Страсть это, – отвечала Оля. – Кто-то собирает деньги, кто-то – одежду. Люди пьют, курят, обжорствуют, или, наоборот, служат «культу тела». Страсти маскируют… – она хотела сказать «ужас жизни», но смягчила, – смыслы бытия.
Несколько недель назад, проснувшись рано утром, она долго лежала в постели (был выходной), перебирая дела предстоящего дня. И вдруг почувствовала, как от неё будто «отодвинулось» прежнее. Это было похоже, как если бы на реке начался ледоход. Огорошенная, Оля схватилась, села на постель. Словно граница пролегла для неё, и прежние, «уплывающие» желания показались обманными, призрачными. Она ощутила укол грусти – будто в этот миг что-то безвозвратно потеряла, утратила в себе.
А сестра рассуждала:
– Я Арише (дочери) говорю: тебе тётя Оля отдает свою кухню. Ну возьми ты эти шкафчики! На первый случай! Какая разница, что там у тебя в новостройке будет висеть?! Выкинешь потом или таджикам отдашь. Нормальная кухня, – сестра показывала на шкафчики рукой.
– Да, – соглашалась Оля.
– А она мне говорит: «Я сама знаю, как мне поступать и что брать!» Вот ты можешь представить, чтобы мне мать что-то говорила, а я не сделала?!
«Интересно, – думала Оля, – нравится ли маме такая погода? Видит ли она нас сейчас оттуда, из другого мира? Как мы чай-кофе пьём?»
Сестра наставляла:
– Ты меня не провожай, опять под дождь, промокнешь, время потеряешь.
– Ничего не потеряю, – смеялась Оля. – Может, мне за эти два часа – до вокзала и обратно – потом там побольше начислят, – она кивнула на потолок.
И на вокзале шел дождь, встрёпанные, как воробьи, пассажиры прятались под навес над перроном. По-деревенски пахло угольным дымом – он вился над мокрой спиной длинного состава; нарядные и торжественные проводники в синих плащ-накидках проверяли билеты.
Они прошли внутрь вагона, в темноте нашли 15-е место, сели. Сестра уже мысленно была в пути и как бы «отъединилась» от Оли. Новая вишнёвая шляпа грустно лежала на столе.
– Возьми себе, – сказала сестра. – Куда я её буду носить в деревне? В куриный сарай, что ли?!
– Нет, – отказалась Оля. – Будешь смотреть на неё, вспоминать Москву.
Домой она возвращалась в холодных сумерках. Дождь прошел. Золотыми свечами отражались на влажных тротуарах фонари. Медленно, как единый организм, двигался плотный поток машин по шоссе, весь прошитый тревожно-кровавым пунктиром стоп-сигналов. И, скрытое от всех, мерно стучало её тревожное сердце, запечатлевшее дождливый день той счастливой осени.
«Камасутра» по-русски
Нигде так не обостряется любовь к жизни, как в больницах, тюрьмах и домах престарелых.
Палата в отделении травматологии. Вечер.
– Юли опять нету, – кивает на пустую кровать Варвара Ивановна. – Ох, и безбашенная девка! Опять с женихами забурилась!
Юля – крашеная блондинка лет двадцати с невинными голубыми глазками (сиделка Эльвира называет их взгляд, направленный на мужчин, исключительно нецензурно). Будучи сильно выпивши, но строго руководствуясь правилами дорожного движения, Юля шагала по «зебре», и тут сбил её водитель-нарушитель. Результат – перелом руки. Водитель, естественно, стал канючить и ныть: мол, не губи, у меня дети, семья, «век за тебя молиться буду», и Юля, в конце концов, растрогалась и сказала: «Я вас прощаю». А сама она попала в отделение травматологии и сразу же стала нарушать режим, гулять по улице. И с первого же похода привела себе кавалера – студента-корейца. После прогулок они обычно поднимаются в палату, и он ей помогает снимать джинсы.
Эльвира усмехается:
– А помните, её мамаша-интеллигентка прибежала к врачу и жалуется: с кем вы поместили мою дочь? Здесь на неё могут дурно повлиять!
– Ха-ха-ха, – заливается Варвара Ивановна, так что даже густые каштановые кудряшки её «химии» подрагивают. – Да она сама на кого угодно повлияет!
Ефросинья Семёновна, полная рыхлая женщина, добродушно вздыхает – что взять с молодежи!
– О-о… А-а… Э-э-эх!.. – вдруг раздается дико-жалкий крик с «транзитной» кровати. На это элитное место – у окна – кладут тяжелых больных.
– Начинается, – грустно констатирует Варвара Ивановна.
– Опять не поспим, – вздыхает Ефросинья Семёновна.
Варваре Ивановне – под восемьдесят, но мало кто называет её старушкой – такой она живчик, полный энергии и движения. И вот теперь левая нога её, похожая на сухую слегу, торчит на вытяжке, конструкции которой напоминают средневековые пыточные устройства. Нога же тучной Ефросиньи Семёновны, тоже проткнутая «спицей» и оттянутая чугунной «грушей», скорее похожа на белое ошкуренное бревно. Ноги «смотрят» друг на друга – в палате женщины лежат напротив.
– О-о… – вновь раздается слабый стон с кровати у окна.
– Как это всё надоело! – Эльвира всплескивает короткими, аккуратными ручонками и нехотя поднимается из своего угла – там, где на больничной каталке устроена её постель. – Баб Кать, чего буяним? Вроде сухая… – размышляет сиделка, отбрасывая одеяло и осматривая простынь. – Баб Кать, в туалет хотите?
В ответ слышится невнятный, прерывистый мык.
– Как хочешь, баб Кать, потом тебе же хуже будет, – угрожает Эльвира, потрясая перед лицом больной пустой 700-граммовой стеклянной банкой. – Буду тебя потом тревожить, переворачивать…
Баба Катя затихает. То есть это не баба Катя – когда-то веселое дитя, после – цветущая девушка, привлекательная женщина и добрая бабушка, нет, это уже нечто другое, совершенно уничтоженное временем и теперь больше похожее на старую, серо-белесую корягу, выброшенную прибоем на берег.
Эльвира возвращается в свой угол.
– А-о-у-у-у! – душераздирающий крик с постели бабы Кати.
– Свят, свят! – крестится Ефросинья Семёновна.
– Не дай бог до такого дожить, – суеверно замечает Варвара Ивановна. – Хорошо бы как-нибудь тихо помереть!
Эльвира далека от подобных экзистенций.
– Не, ну вы посмотрите, что она творит! – возмущается сиделка. – Днём спит, как голубь мира, а ночью начинаются концерты! Баба Катя! – возвышает она голос. – Помолчите хоть пять минут!
Стоны стихают.
– Каждый день одно и то же, – приглушая голос, упаднически продолжает Эльвира. – Вопли, судна, боль и маразм!.. Брошу я всё, надоело мне!..
Ефросинья Семёновна доброжелательно молчит. Её дочки наняли Эльвиру через фирму «Покой и уют» за немалые деньги. Уже на месте Эльвира развила «частное предпринимательство», взимая с остальных неходячих в палате посильную мзду, поскольку на весь этаж в отделении была только одна нянечка. У одинокой пенсионерки Варвары Ивановны, лежащей с ногой уже полтора месяца, деньги давно кончились, так что ей сиделка подает банку и судно, можно сказать, за «спасибо». Зато с родственников бабы Кати Эльвира дерёт по максимуму: не хотите бабусю дома докармливать – платите за удовольствие.
– Как же мы без тебя, Эльвирочка? – заискивает Варвара Ивановна. – Пропадём!
– Да это я тут с вами пропадаю! – негодует Эльвира. – Месяц с лишним сижу безвылазно. Ничего, кроме ваших задниц, и не вижу! В другом месте я, может, давно бы замуж вышла! У нас в больнице (до карьеры сиделки Эльвира работала медсестрой в Йошкар-Оле) моя подруга Жанна отличного мужика увела прямо с одра. В чём был. Его привезли на «скорой» с аппендицитом. Жанна ему даже домой не дала зайти. А что, паспорт у него с собой, водительские права – тоже. Жанна бывшей супруге очень даже благодарна. За небрежение – такого мужика упустить! Он жене сказал: не ходи ко мне, заживет как на собаке, операция пустяковая. Та: ну и ладно. А Жанна – тут как тут, не растерялась. И чтоб поползновений не было, вывезла его в Нижний Новгород. Всё хорошо, уже и квартира у них…
– Тебе, Эльвир, надо было в мужскую палату устраиваться, – не может удержаться от подколки Варвара Ивановна. – Там заодно и обглядела бы все органы, в семейной жизни необходимые.
– Это вы, Варвара Ивановна, спец по органам, – хихикает Эльвира, – вас надо на консультацию брать.
– Я по женским органам специалист, а в мужских я ничего не понимаю, – уточняет Варвара Ивановна. – И я вам, девочки, скажу следующее: 35 лет отработала гинекологом, а вот о том, что такое «Камасутра», до сих пор не имею понятия. Хоть бы узнать на старости годов!
Ефросинья Семёновна улыбается, покачивая головой: ну и артистка же Варвара Ивановна! Если бы не её хохмы, вообще можно было бы с ума сойти!
– Камасутра – это искусство любви, – назидает Эльвира. – Вы многое потеряли в жизни!
Тут и Юля возникает на пороге, благоухая парфюмом и табачным дымом. На этот раз одна, без кавалера.
Варвара Ивановна, как бывший врач, считает должным вести антиникотиновую пропаганду:
– Юля, от курения сосуды сужаются, кожа портится.
– А я не в затяжку! И, между прочим, на улице только. Вы бы это лучше мужикам сказали. Смолят по-чёрному. Идёшь по коридору, из-под дверей дым стелется, как на рок-концертах.
– И медсестра на это сквозь пальцы смотрит, – подхватывает Эльвира. – У нас в Йошкар-Оле такого бардака в больницах нету!.. Слушай, Юль, ты можешь своей подруге сказать, чтобы принесла нам на один день «Камасутру»? Варваре Ивановне нужно. Мы отдадим потом.
– Зачем вам? – фыркает Юля. Голубые, наивные глаза её становятся большими-большими от изумления. – Как вы этой книгой будете пользоваться, там же ноги в основном задействованы? – И Юля хохочет, глядя на беспомощные тела с «грушами».
– Тебе что, трудно попросить? – почти до слёз обижается Варвара Ивановна.
– Ладно! – вмиг смягчается Юля и достаёт из кармана мобильник. – Алёна, привет. Ты ко мне завтра собиралась? Слушай, захвати «Камасутру». Что? Какое дивиди? «Камасутру», говорю, книгу. Не задавай глупых вопросов. Да, половое просвещение. Не забудь! И влажные салфетки. Пока!
– С вами не соскучишься. – Юля уважительно качает головой и надевает наушники от плеера. Вовремя: потому что раздается душераздирающий крик бабы Кати.
На следующий день, после обеда, настроение у всех подавленное. Во-первых, не выспались – баба Катя стонала всю ночь. Во-вторых, хотя с утра бабу Катю невестка с сыном всё-таки забрали домой, через час на транзитную кровать уже положили бабу Галю – старушку хотя и относительно тихую, но не менее тяжелую – с рукой на «вертолёте» и с пролежнями. В-третьих, и это самое главное – врач Юрий Иванович толком их так и не посмотрел.
Варвара Ивановна скорбно вспоминает:
– Заскочил, глянул, мы завтракаем, и говорит: ну, я к вам через пять минут приду…
– …И зашел через пять часов! – негодует Эльвира.
– И то потому, что ординатор Володя его почти силой затащил… Просили слёзно! – чуть не всхлипывает впечатлительная Ефросинья Семёновна.
– Ворвался, и сразу ко мне, – продолжает Варвара Ивановна. – Схватил одеяло, а у меня там, между прочим, банка была подставлена, и говорит: «Тут всё то же самое!»
Ефросинья Семёновна, превозмогая боль, начинает смеяться, за ней – все остальные…
– «Всем показана иммобилизация», – сквозь смех повторяет слова врача Эльвира. – Только мы его и видели!
– Мол, пей мумиё и лежи, – вздыхает Ефросинья Семёновна. – О-хо-хо… Хоть бы сёстры милосердия зашли, божественное что рассказали, всё какие-то люди свежие.
Варвара Ивановна грустит:
– А я, девочки, так надеялась, что он мне спицу вынет. Уже и трусы новые под это дело приготовила…
– И «Камасутру» прочитала! – хохочет Эльвира.
– Манекены, а не люди, мне не понравилось, – критикует книгу Варвара Ивановна. – И что в ней находят?! Между прочим, он зашел, а книжка на тумбочке лежит. Может, это его отпугнуло? Увидал такую литературу и подумал: они тут совсем чокнулись, им на кладбище пора, а они за «Камасутру» взялись!
– Да нет, его травмировало судно у тебя в головах! Я утром, когда палату мыла, убрала с пола, чтобы не мешалось, и поставила его вам за голову, а снять забыла…
– …Он заходит, а тут такое!..
Женщины снова хохочут, настроение заметно улучшается.
После долгой-долгой паузы Эльвира задумчиво говорит:
– А не выйти ли мне за него замуж?
– За кого? – не сразу понимает Варвара Ивановна.
– Да за врача нашего, Юрия Ивановича. А что, человек он, я вижу, одинокий, женским вниманием не избалован. И что у него за жизнь?! С восьми утра до шести вечера в отделении. Что он видит? Судна вонючие, ноги переломанные, снимки, кости и операции без конца. И я чувствую, что ему всё это надоело и он готов к переменам. Надо только найти к нему подход, чтобы потом он уже не вырвался…
– Подожди, Эльвир, – живо откликается Варвара Ивановна, – он же вроде моложе тебя?
– Ну и что! Это ничего не значит! Тем более, дети у меня самостоятельные – дочь в гражданском браке живёт, сын в колледже. Я для своих лет – выгодная невеста. И зарабатываю нормально. Да, старше чуть-чуть. Но и он не красавец: на лицо смурной, ногу тянет, прихрамывает…
– Зато он сильный, – вступается за врача Ефросинья Семёновна. – Назначил мне рентген, а санитаров не было. Схватил мою кровать и поволочил к лифту в одиночку.
– К «Заячей губе»? (Рентген делает женщина садистских наклонностей с дефектом внешности.)
– Ну да.
– Какие-то они здесь все калечные, – размышляет Варвара Ивановна. – Медсестра на посту с ортопедическим воротником на шее, врач наш – хромой, «Заячья губа» опять же, процедурные сестры пьяные в стельку…
– Ага, – говорит Ефросинья Семёновна. – Ко мне, видала, вчера подошла эта Света, еле на ногах стоит: «Я вам укол сделаю!» Я говорю: нет, не надо! А то ещё вколет что-нибудь и проснёшься на том свете, с ангелами.
– Уход за больными отвратительный, средний медперсонал никуда не годен, – резюмирует Эльвира. – А врачи хорошие, опытные.
– Эльвира! – Варвара Ивановна хлопает себя ладонью по здоровой ноге. – Мне пришла в голову гениальная идея! Ты, как человек с огромным опытом, должна написать практическое руководство по уходу за тяжелыми больными в травматологическом отделении…
– Про то, как судно в голову поставила…
– Нет, ну почему! Надо описать всё, вплоть до мелочей. Как, допустим, больному с переломом шейки бедра в условиях стационара или на дому делать туалет, менять одежду, подавать судно, и всё это с картинками…