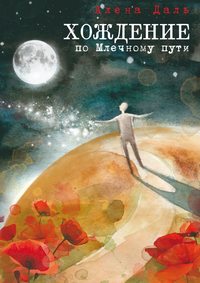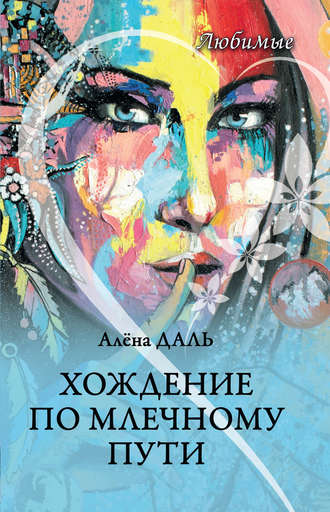
Полная версия
Хождение по Млечному Пути
Карл Великий, король франков, долгие годы продолжавший войну с маврами на испанской территории, в 778 году встал перед дилеммой: продолжить штурмовать непокорённую Сарагосу – последний оплот арабского владычества – или отступить, поверив на слово сарагосскому правителю Марсилию, обещавшему повиновение и принятие христианства в обмен на отказ от осады. Лучший полководец и племянник Карла рыцарь Роланд не доверял словам ненадёжного Марсилия. Однако хитрый и коварный интриган Ганелон – отчим Роланда – убедил короля франков принять предложение врага. Взаимная неприязнь рыцаря с наречённым отцом обернулась роковыми для Роланда последствиями. По мнению историков, именно Ганелон имел прямое отношение к разгрому франкского арьергарда в Ронсевальском ущелье. Другая гипотеза учёных говорит о битве между войсками Карла Великого и свободолюбивыми басками, опасающимися порабощения франками и потери независимости, а потому вступившими в сговор с сарацинами. Как бы то ни было, арьергард королевского войска во главе с Роландом оказался зажатым в узком скалистом ущелье и стал лёгкой добычей для врага. Атака стала для франков полной неожиданностью, а дислокация битвы не позволила оказать достойного сопротивления.
Тщетно друг Оливье призывал Роланда вострубить в волшебный боевой рог Олифант, чтобы призвать на помощь подкрепление. Не позволила гордость рыцаря послушаться доброго совета товарища, не сумела юношеская бравада уступить мудрой подсказке старшего. Пал в бою храбрый Роланд, а с ним и «воин меча и мысли» Оливье, и епископ Турпен, и все двенадцать пэров Карла Великого. И хотя раздался под конец сражения зов Олифанта, было уже слишком поздно. Вернувшись на клич рога, король франков застал лишь обагрённое кровью поле битвы и погибших в неравном бою своих доблестных воинов.
«…Лёг Роланд на землю, лицом к врагу. Поднял руку в рыцарской перчатке к небу и бестрепетно встретил смерть, как подобает воину. Лежит неистовый, безудержно отважный, безмерно храбрый и беспримерно преданный милой Франции рыцарь Роланд в долине Ронсеваля. Он лежит в своих золотых доспехах, обагрённых кровью, с белым рогом своим Олифантом и с мечом Дюрандалем. Так и нашёл его на поле битвы седобородый Карл…»[30] – это кульминация поэмы, в которой слились воедино боль и величие. Именно так беззаветно и преданно до́лжно служить сюзерену. Что до человеческих слабостей и пороков, помешавших призвать на службу не только храбрость и отвагу, но и разум, и мудрость, то эти мелочи нисколько не умаляют величия героя французского эпоса. Самое значительное в «Песни о Роланде», равно как и в других поэмах о рыцарях, – вовсе не исход конкретной битвы, а готовность воина сражаться с врагом до конца, «до последней капли крови». Лишь одному сюзерену помимо короля может присягнуть вассал – Богу, что и делает умирающий Роланд, поднимая к небу руку в рыцарской перчатке. А меч Дюрандаль, по преданию, и по сей день покоится на дне горной реки, куда сбросил его истекающий кровью воин, чтобы не достался он врагу.
Поэма заканчивается торжеством справедливости: Сарагоса пала, Марсилий убит, коварный Ганелон предстал перед судом Божьим, а Карл Великий вновь отправляется в поход. Но страна франков долго ещё скорбела о своём герое. Легенда настолько овладела сердцами людей, что позже Роланд обрёл собственную поэтическую судьбу: были сложены поэмы о его рождении, детстве, первом знакомстве с королём Карлом и обретении меча Дюрандаля, о его подвигах и деяниях, любовных приключениях и воинской дружбе. Артефакты, связанные с его судьбой, памятники, посвящённые герою, рассеяны по всей Европе. Изображение Роланда украшает гербы и эмблемы европейских городов и стран.
Героический образ доблестного рыцаря, несмотря на гипотетичность сюжета, снисхождение к историческим неточностям, допискам и дополнениям, – это прежде всего великая идея, обладающая нерушимой силой и святостью, идея преданного и беззаветного служения своей земле и вере…
Вот по какой легендарной дороге мы идём в эту самую минуту. Великий рыцарский путь из Франции в Испанию, дорога завоевателей и паломников, королей и контрабандистов, мирных послов и свирепых разбойников. Сейчас это увлекательный и весьма прибыльный туристический маршрут, вписанный в исторический ландшафт и приправленный изрядной толикой мистики и романтики, а для кого-то ещё и действенный способ испытать себя.
* * *Дети Агнеты ушли далеко вперёд, на горизонте видны их худенькие фигурки: одна долговязая, другая пониже. Угловатая, как новорождённый оленёнок, Ева – тринадцатилетний нескладный подросток с брекетами и модной крашеной чёлкой – и вечно сонный студент Ежи – добродушный ворчун с печальными серыми глазами, в недавнем прошлом безнадёжный наркоман. Агнета как-то вскользь упомянула, чего ей стоило вырвать сына из наркотического ада. Два года отчаянной борьбы на грани возможного без права на передышку. Но теперь всё позади. Её Ежи с ней, он здоров и скоро станет, как и мама, инженером-судостроителем. Мне редко приходится видеть такие нежные отношения между взрослым братом и младшей сестрой: всё-таки семь лет разницы в таком возрасте – непреодолимая пропасть.
– Ева росла на руках у Ежи, – рассказывает Агнета. – Когда девочка пошла в школу, он брал её с собой на каток и учил играть в хоккей. Если дворовых мальчишек не хватало для ледового боя, на ворота ставили Еву. А она… Она была страшно горда, что большие мальчики берут её в свою игру. И даже скрывала от меня свои спортивные раны – шишки и синяки, представляешь?
– А Ежи тоже участвует в её девчачьих затеях? – интересуюсь я.
– Ты знаешь, да! Как-то они вместе пошли покупать для Евы первую губную помаду. Я хорошо помню, как они встретили меня у порога с заговорщическим видом, их распирала изнутри общая тайна. А дело было всего лишь в оранжевом блеске на губах дочери. Я не сразу заметила, а сын оскорбился едва ли не больше, чем сестра. Ещё бы, ведь это он выбирал цвет!
Посерьёзнев, Агнета добавляет:
– Если бы не Ева, не уверена, смогла бы я спасти сына… – и надолго замолкает, присев к развязавшемуся шнурку.
Я жду, когда она перешнурует ботинки, и аккуратно меняю тему.
– Агнета, давно хотела тебя спросить: откуда ты так хорошо знаешь русский?
– Учила в школе – это раз. – Агнета, пыхтя, выпрямляется. – А ещё была активисткой школьного Клуба интернациональной дружбы и целый год переписывалась с русским мальчиком, кажется, из Киева. Ведь тогда ещё был Советский Союз!
– Помню-помню! – оживлённо подхватываю я. – В СССР в те годы выходил журнал «Польша», и там были адреса польских школьников, желающих переписываться со своими русскими сверстниками. Ты не поверишь, мы с братом тоже переписывались тогда с поляками!
– Ну а главное, – продолжает Агнета, – я уже долго работаю на верфи, где строятся и ремонтируются корабли, среди которых немало русских, то есть теперь уже российских. Поэтому русский я знаю не хуже, чем польский!
Мои глаза округляются: второе совпадение оказывается ещё более поразительным.
– Постой, ты ведь живёшь в Гданьске?
– Ну да.
– И работаешь на Балтийской верфи?
– Да.
– Не может быть! – изумляюсь я. – Выходит, мы с тобой ходили по одним и тем же стапелям весь прошлый год!
– Ты что, работала на нашей верфи? – недоумевает полячка.
– Представь себе! Ну не то чтобы работала… Часто приезжала к вам в Гданьск, потому что участвовала в оборудовании парусника «Алые паруса». Слышала о таком?
– Ещё бы! – Теперь очередь Агнеты округлять глаза. – О нём говорила вся верфь. Только русские могут придумать шить оснастку из красной парусины! И делать осадку, которой не может быть в принципе.
– Но у нас это получилось!
– О да!
Мы на радостях обнимаемся, как друзья-моряки, сошедшие на берег после долгого похода.
– Ну надо же! Почему же мы не встретились тогда? Никак не могу понять.
– С чего ты взяла? – отвечает рассудительная Агнета. – Может, десятки раз и встречались. Просто там была совсем другая жизнь, и мы не обращали друг на друга внимания. Мало ли кто приезжает к нам на верфь? А по работе тесно и не сталкивались.
– Это ещё что! – вспоминаю я. – Бывает так, что живут люди в одном городе, на одной улице, чуть ли не в одном доме, а знакомятся только на другом конце земного шара! У меня так было!
– У меня тоже!
– Вот видишь? Значит, просто теперь настало время, – заключаю я, и мы шагаем дальше.
…Бургете, Зубири, Ларасоана, Тринидад-де-Арре… Наваррские городки и деревни – все как один чудо-пасторали: тихие, маленькие, уютные и какие-то… кукольные, словно объёмные слайды из стереофильмов моего детства. Белёные домики, черепичные крыши, тёмные ставни, кружевные занавески в раскрытых окнах, горшки с цветами и розовые кусты у входа. Ватные облака, река из фольги, фонари из папиросной бумаги. Только вместо пушистых мишек и гномов из сказки – взаправдашняя бабулька с живой козой, старичок за рулём трактора или юный пастушок с медным рожком и длинной палкой. Возле каждого дома – непременная скамеечка, на которой можно передохнуть, в том числе и проходящему страннику. В любом селении есть своя церковка с поэтическим названием, бережно хранимая местная легенда, руины крепости, часовня или башня с аистом на крыше, на худой конец древний амбар, до сих пор исправно выполняющий свою сельскохозяйственную функцию. При виде этих пасторальных картинок рука инстинктивно тянется к фотоаппарату, но груз рюкзака и усталость часто перевешивают первый порыв, и восторги остаются запечатлёнными лишь в памяти.
По следам Хемингуэя
Земля Наварры полна природного магнетизма, притягивающего к ней людей творческих и страстных, неутомимых собирателей образов и впечатлений, коллекционеров острых ощущений и ярких, бодрящих чувств. Тех, кто во всём ищет свежесть и вдохновение.
Её история, уходящая узловатыми корнями к древним преданиям и традициям, её неистовые праздники и неуёмная страсть, ещё не тронутая цивилизацией природа и добродушная простота местных жителей привлекают сюда писателей и художников, музыкантов и поэтов, композиторов и режиссёров, да и просто ценителей прекрасного.
В 20-х годах прошлого столетия по этой земле путешествовал Эрнест Хемингуэй – старик Хэм, как называла его богема. Его ноги ступали по дорогам Наварры, он гулял в буковых пиренейских лесах и ловил форель в реке Ирати, сиживал с друзьями в местных барах, заполненных бородатыми горцами.
В Бургете сохранился в неизменности двухэтажный отель с зелёными ставнями, где когда-то ночевал писатель: «Мы пошли в гостиницу мимо выбеленных каменных домов, где целые семьи сидели на пороге и глазели на нас… Толстая женщина, хозяйка гостиницы, вышла из кухни и поздоровалась с нами за руку. Поднимался ветер, и в гостинице было холодно. Хозяйка послала с нами служанку наверх показать комнату. Там были две кровати, умывальник, шкаф и большая гравюра в рамке – „Ронсевальская Богородица“. Ставни дрожали от ветра…»[31]
Комната, в которой останавливался Хемингуэй, нисколько не изменилась за минувшее столетие. Тучная сеньора, по-видимому, правнучка той прошлой хозяйки, с гордостью показывает нам медную мемориальную табличку у двери. Мало изменился и сам отель, по-прежнему холодный и сырой. Да и дорога, по которой мы идём вот уже третий день, кажется, ещё хранит пыльный след башмака старика Хэма. Но больше всего имя писателя чтут в Памплоне, где разворачиваются основные события его знаменитого романа «Фиеста».
Памплона и праздник Сан-Фермин, свидетелем и неоднократным участником которого был Хемингуэй, пожалуй, наиболее ярко характеризуют Испанию как страну, соединяющую в себе язычество и христианство. Ну скажите, в каком ещё городе мира чествование святого заканчивается безумной вакханалией с риском для жизни? Где ещё пение религиозных гимнов соседствует с винными реками и земными удовольствиями? Как в течение девяти дней сдержанное католическое благочестие смешивается с пышными парадами и развлечениями, строгие церковные ритуалы – с фривольными уличными играми, торжественные мессы – с ярмарками и кровопролитными зрелищами? Видимо, отчасти это объясняется тем, что святой Фермин был не только первым епископом Наварры, но ещё и покровителем виноделия и хлебопечения. Отсюда и проистекает замысловатый дуализм верований, эклектичность традиций, синтез духовного и материального, поставленный нынче на службу городской казне.
Центральное событие праздника – пробег «энсьерро»[32]: экзальтированная толпа мчится перед разъярёнными быками, играя со смертью. От загонов Санта-Доминго до Пласа де Торос[33], где вечером проводится коррида, 850 метров, а бег продолжается всего три-четыре минуты, но ради них на праздник съезжаются тысячи туристов со всего света. В период фиесты население Памплоны удваивается, а то и утраивается. Часть гостей участвует в самом пробеге, а не просто довольствуется пассивной ролью зрителя. Дело это опасное и крайне рискованное, особенно для новичков. Опытные испанские бегуны от быков знают наизусть каждый изгиб улицы, каждый поворот и уступ, за которым можно укрыться от смертельной опасности, и то больше ста метров редко кто решается бежать. Но всё равно не обходится без жертв. Случаются особо кровопролитные годы, когда под копытами и рогами животных увечатся и погибают люди. Таким стал Сан-Фермин 1924 года: 13 погибших и 200 серьёзно раненных участников. Последний смертельный случай во время пробега быков был зафиксирован в 2009 году. Всего же за 88 лет (столько ведется статистика) на энсьерро погибли около двух десятков человек, число покалеченных исчисляется сотнями. И тем не менее количество людей, желающих поучаствовать в этом безумии, ежегодно только растёт. Наваррцы очень гордятся своими быками, считая их лучшими во всей Испании (впрочем, это утверждение охотно оспорили бы жители других провинций). Быкам прощается многое: их гнев и необузданная жестокость и даже кровь незадачливых безумцев. Тем более что к вечеру они сами становятся жертвами праздника: их забивают на корриде. Мясо таких быков уходит в самые дорогие рестораны Памплоны, а блюда из них продаются по ценам, не менее безумным, чем предшествующее действо.
Мы заходим в город по выщербленной булыжной дороге. Она вползает на холм вдоль толстых стен крепости. Жёлтые стрелки и вмурованные в мостовую ракушки безошибочно ведут нас к собору Иисуса и Марии, рядом – одноимённый альберг, тот самый, возле которого Эррандо встретил своего наставника Томаша. Я вспоминаю сурового старика в берете, и на душе теплеет.
Среди толпящихся возле дверей альберга людей мы видим много знакомых лиц. Вот японская бабушка гладит местную кошку, высекая искры из чёрного меха. Кошка терпит, потому что видит в её руках пакетик корма. Заметив нас, японка мелко, как заведённый болванчик, кивает, лицо её озаряет улыбка – узнала! Вот и французы с рюкзаками «от-кутюр», правда несколько запылившимися и потрёпанными в дороге. Белоснежная панама мадам уступила место деревенской соломенной шляпе, а холёные усы мсье потеряли былой лоск, повиснув вниз пыльными сизыми сосульками. Но настроение у обоих бодрое! Организованная немецкая группа распалась на отдельных людей, каждый из которых по-своему уникален: фрау Анна увлекается йогой, Петер не любит пиво и сосиски, чем вызывает насмешки друзей-баварцев, Сабина сочиняет стихи, подражая Гёте, хотя по профессии фармацевт. Компания итальянцев свои разноцветные ветровки поменяла на шлемы, перчатки и лосины: они решают продолжить путь на велосипедах. Все рады друг друга видеть и разнообразны в проявлении своих чувств.
Я предлагаю Агнете пройтись по следам Хемингуэя, а в качестве гида хочу пригласить Анатолия – того самого одессита-памплонца, что познакомил нас в поезде с Эррандо. С трудом нахожу номер телефона, нацарапанный на билете Сарагоса – Памплона. Волнуюсь. Звоню.
– А-а-а! Перегринос Элена из России! – распевает Анатолий. – Привет-привет! Никак уже в Памплоне? А я-то думал, Эррандо тебя удочерит!
– Останься я у него в гостях ещё на недельку – вполне возможно, так и случилось бы, – отвечаю.
– Занимательный старик этот Эррандо!
– Да, он классный. Знаешь, он ведь тоже прошёл Путь Сантьяго, и не раз!
– Ну, меня это не удивляет. Я не знаю ни одного испанца, который бы его не прошёл!
– Слушай, – перехожу я к делу, – как у тебя сегодня со временем?
– Оно всегда в моём распоряжении, – философски замечает Толик, – а что ты хотела?
– Украсть немного, – честно признаюсь я. – Не побудешь нашим гидом? Мы с подругой хотим пройтись по местам Хемингуэя – к кому, как не к тебе, я могу ещё обратиться?
– Да не вопрос! Для тебя и старика Хэма – всегда пожалуйста! – великодушно соглашается Толик. – Когда и где?
Уславливаемся встретиться через час у фонтана на площади Кастильо. Толик приходит через полтора, когда мы с Агнетой уже разуверились его дождаться. Как ни в чём не бывало машет рукой, а пунктуальная Агнета, вижу, еле сдерживается от негодования. Но в данной ситуации мы целиком и полностью зависим от благосклонности нашего гида-добровольца, поэтому берём себя в руки и улыбаемся.
И вот мы уже шагаем по улицам Памплоны к памятнику Хемингуэю на бульваре Пасео возле Арены Торо.
– Его здесь называют Папой, – комментирует Анатолий, указывая на грубо тёсанный серокаменный бюст писателя.
– Папой? Почему папой?
– Наверное, считают его в какой-то степени отцом города, он ведь очень любил Памплону, часто здесь бывал и со многими дружил.
Разглядываем выбитые на камне слова: «Памплона и Хемингуэй… Хемингуэй и Памплона… Они неразрывно связаны друг с другом…» И рядом достаточно подробное описание, в чём эта связь выражалась, когда началась и как повлияла на судьбу города. Проникновенно и даже сентиментально. Внешняя суровость басков часто скрывает чуткое ранимое сердце. Да и сам старик Хэм, в своём грубом свитере, с бородой и изрезанным морщинами лицом здорово смахивает на уроженца Эускади.
– Когда идёт фиеста, на шею ему повязывают красный платок, похожий на пионерский галстук из нашего прошлого, – улыбается Толик. – Это элемент национальной одежды басков и обязательный атрибут фиесты. У меня тоже такой есть.
Мы сворачиваем на Эстафету – именно на этой улице разворачивается энсьерро. На каждом доме висят указатели, в которых детально описано, что и как происходит в этой точке бегов. Например: «Здесь быки на большой скорости разворачиваются на 90 градусов вправо, при этом могут врезаться в забор» или «Здесь улица резко сужается – осторожно, не споткнитесь!» Так что при богатом воображении можно ярко представить себе, как всё происходит. Узкие балкончики, выходящие на главную магистраль энсьерро, во время праздника превращаются в VIP-ложи, с которых отлично видно зрелище, а главное – безопасно и удобно для съёмок. Круглый год Эстафета пестрит сувенирными лавками с разнообразной символикой фиесты. Из самых любопытных сувениров, что попадаются на глаза – светильник в виде головы быка (сенсорный выключатель позволяет регулировать степень красноты глаз), сурдинка, имитирующая бычий рёв, и… фотография быка, смотрящего угрюмо прямо в объектив, в белой рамке, залитой «кровью», с подписью «Не убивай меня!»… Последний сувенир продаёт с рук активист общества по борьбе с жестоким обращением с животными. Они выступают против убийства быков во время корриды. По словам Анатолия, в последние годы праздники часто сопровождаются многолюдными акциями протеста – как сейчас говорят, флешмобами. Во время их проведения люди в белых одеждах, испачканных в «крови», ложатся на брусчатку Эстафеты с плакатами против корриды. Это болезненный вопрос, делящий Испанию на два непримиримых лагеря: защитников животных и защитников традиций. Противостояние между ними продолжается уже десятилетия, но жестокие зрелища по-прежнему исправно пополняют казну королевства.
Даже если корриду когда-нибудь запретят (в чём я сильно сомневаюсь), энсьерро останется. И останутся посвящённые быкам памятники, которых по всей Испании великое множество. Вот один из них: скульптурная композиция «Бегущие от быков». Экспрессия такая, что хочется немедленно бежать. Многотонные туши, отлитые в натуральную величину с правдивыми анатомическими подробностями, застыли в могучем беге. Их стремительная мощь, слепая, необузданная ярость сокрушают всех и всё на своём пути. Старик, оказавшийся под копытами быка, с мольбой глядит на небо. Так и хочется крикнуть ему: «Ну куда тебя-то понесло, старый?» Молодой мужчина вот-вот попадёт на острый рог свирепого зверя. В его глазах и ужас, и восторг. Динамичность фигур людей и животных правдоподобно передаёт столпотворение во время энсьерро. Но монумент лишён звуков и запахов толпы: не слышно цокота копыт о булыжник, криков ужаса и визга женщин, нет острого запаха разъярённых животных и разгорячённых людских тел. А в остальном – блестяще запечатлённое мгновение энсьерро. Одно из тысячи.
И вот мы снова на площади Кастильо, перед роскошным и самым старым в Памплоне отелем «Ла Перла»[34]. В нём Хемингуэй останавливался 36 раз: первый – 6 июля 1923 года, за три года до написания «Фиесты», последний – в 1959 году, за два года до смерти. На втором этаже расположена комната № 201 с той же самой мебелью и обстановкой, которые были во время визитов писателя, а сегодня здесь ещё и небольшая экспозиция его личных вещей.
– Знаете, сколько стоит этот номер? – спрашивает Анатолий и сам себе отвечает: – Тысячу евро за ночь. Причём во время фиесты надо оплатить сразу пять дней. И бронируют его за полгода вперёд. Да и остальные номера не пустуют.
Тогдашний хозяин отеля «Ла Перла» Хуанито Кентано, который фигурирует в романе под именем Монтойа, был одним из близких друзей писателя в Памплоне. Яркая, незаурядная личность, крёстный отец матадоров и афисьонадос[35], он принял нового гостя сразу и навсегда. Хуанито разглядел подлинную страсть молодого Эрнеста, которую нельзя ни изобразить, ни подделать, и это было достаточным основанием для долгой дружбы и надёжной гарантией наличия свободного номера при любом аншлаге. Интересно, кто сейчас управляет отелем? И сохранилась ли традиция оставлять места для преданных афисьонадос?
А ещё я думаю о том, что Пётр Вайль[36] непременно назначил бы «гением места» Памплоны именно Хемингуэя. Потому что почти все достопримечательности города связаны так или иначе с именем писателя. Наварра приняла американца как родного. Его «Фиеста», написанная в Памплоне и о Памплоне, сделала Хемингуэя великим мастером слова, будущим нобелевским лауреатом и большим другом наваррцев.
– Ну а теперь, если не возражаете, пойдем в «Ирунью»[37], – предлагает Анатолий.
Мы с Агнетой не возражаем, и все трое бодрым шагом направляемся в знаменитое кафе наискосок через площадь. «Мы спустились вниз из отеля и зашагали через площадь в кафе „Ирунья“. На площади одиноко стояли две будки для продажи билетов. Окошечки с надписями были закрыты… Белые плетёные столики и кресла кафе стояли не только под аркадой, но занимали весь тротуар…»[38]
Кафе переполнено, и, хотя сейчас не время фиесты, в нём царит атмосфера праздника и беззаботного веселья. Следы присутствия Хемингуэя повсюду. Его фотографии развешаны на стенах, на некоторых снимках писатель стоит в обнимку с великими матадорами, афисьонадос и заводчиками племенных быков. Вот он со знаменитым Антонио Ордоньесом, героем будущего романа, названным в книге именем Ромеро. В баре обозначены любимые напитки писателя, среди которых, безусловно, и мохито, и дайкири. Но и местное вино Хэм уважал, особенно любил продемонстрировать умение пить из кожаного бурдюка басков. Любимец Памплоны, он и сейчас сидит в баре, отлитый в бронзе, тяжело опершись рукой о стойку, и, должно быть, крепко задумавшись над собственной фразой: «… Человек не для того создан, чтобы терпеть поражения… Человека можно уничтожить, но его нельзя победить».[39]
Два часа сидим мы за столиком недалеко от погрузившегося в раздумья Хемингуэя, пьём кофе, размышляем каждый о своём, прислушиваемся к неумолкающему гомону голосов, лишь изредка перекидываясь между собой парой-тройкой фраз. Бармен, заслышав иностранную речь, кладёт руку на плечо бронзового писателя и говорит с уважением: «Буэн омбре!»[40]
Высота Прощения
Поутру Наварру накрывает огромная дымящаяся туча. Она, как живая, колышется и вздрагивает всем телом от происходящих в ней внутренних процессов. Её фиолетовые края трепещут, как бока гигантской медузы перед штормом. Туча влажно дышит, сеет мелкие дождевые слёзы и издаёт сокрушённый грозовой вздох, давя рыдания в себе.
Агнета с утра похожа на эту грозовую тучу. Я так и не смогла добиться от неё объяснения, что же произошло. Мы молчим уже третий час, мерно шагаем по дороге, неуклонно ползущей в гору. Ева и Ежи, по обыкновению, ушли вперёд – их спины то исчезают за поворотом, то вновь появляются в окружении других гружённых рюкзаками спин. Дорога ведёт к Пику Прощения (Alto del Perdón) – невысокому, всего 800 метров, но знаковому перевалу Пути. Считается, что здесь все болящие и страждущие могут завершить свой поход, им простятся их грехи, достаточно трижды пройти сквозь символическую арку. Многие пилигримы несут с собой камни, олицетворяющие груз души. Некоторые привозят их прямо из дома, другие подбирают понравившиеся по пути. На Высоте Прощения камни можно оставить в живописно рассыпанных горках, но те, кто в силах нести дальше – несут до Фонсебадонского Креста.