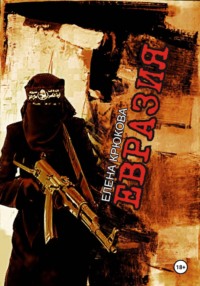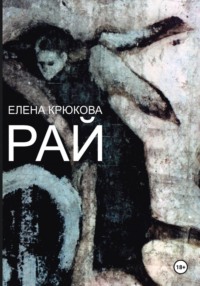полная версия
полная версияХоспис
Хоть он и стар был уже, настолько стар, что стал уже путать времена, и частенько ему казалось – за окном на ветру мотаются красные флаги, и шелково, подхалимски переливаются под тусклым масленым шаром холодного солнца, – однако он еще работал, правда, оперировал все реже, и все чаще консультировал, и все толще становились плюсовые стекла в его старых очках, – дужки отвалились, и он приделал к оправе резинку и так, на позорной потешной резинке, вздевал совиные мутные очки себе на потную переносицу. Старый, а с работы не гонят. И на том спасибо.
Каждое утро надо было встать и привести себя в порядок. В порядок себя приводить становилось все труднее. Труд – принять душ и крепко растереться жестким полотенцем. Труд – вскипятить чайник и пожарить яичницу. Труд, и ужасный, – одеться. Он не умел и не любил одеваться. Он с одеждой мирился. Когда была жива жена, она его одевала, любовно и заботливо. Она даже мыла его в душе; он садился в ванне на корточки, и она окатывала водою его лысеющую голову и размазывала по ней горсть шампуня. А потом терла мочалкой. Вздыхала: "Мотя, ты у меня такой красивый!" Не видела его обвисшего живота, высыхающих ног, лысины. Она любила его.
Жена, ты ушла. Далеко, отсюда не видно. Он шел в больницу и шевелил губами беззвучно: я вор, я вор. Вот я своровал у времени еще одну ночь. И сейчас сворую еще один день. День был и правда драгоценный: он сиял во всю ширь неба грязными стеклами больничного вестибюля, скалился беззубой улыбочкой больничной гардеробщицы. Здрасте, Матвей Филиппыч! Он сухо кивал старухе. В здании пять этажей, а лифта нет. Что ж, это полезно, ноги пусть ходят по ступеням. Ножки, шевелитесь. Он поднимался на второй этаж и уже задыхался, будто тонул, а подходя к четвертому, к своей хирургии, пыхтел как паровоз.
Беспощадный дневной свет заливал ночные, сонные лица. Больные лежали, вставали, ходили, и все как во сне. Они ничего не хотели, и они хотели всего. Они хотели, чтобы он сказал им, как правильно своровать здоровье. Украсть: с богато накрытого, с винами и заморскими фруктами, стола, из ящика старого, с тараканами, нафталинного шкафа. Струились вниз простыни. Горбилась чья-то спина под пятнистым халатом. Пояс развязывался, халат падал на вымытый с хлоркой пол, и ночная рубаха лилась кислым молоком, и в ее вырезе обнажалась коричневая, горелая плоть – высох пирог, зубом не укусишь, зуб сломаешь. Кожа да кости. Всех в землю положат! Матвей подходил к больной, клал свои ловкие, воровские руки ей на плечи. Лягте! Я вас осмотрю. Старуха послушно ложилась. Панцирная сетка лязгала. Матвей вел кончиками пальцев по лбу, по ключицам, бабка, кряхтя, трудно переворачивалась на живот, он мял жесткий хребет, и под его пальцами звенели ксилофоном и уплывали прочь легкие деревянные позвонки. Доктор, что у меня? Только не врите мне! Он беззастенчиво врал больной: дела на поправку! Выходя из палаты после обхода, кивал медсестре и бросал на ходу: эта бабуля, у окна, умрет завтра вечером. А у нее есть родня, деловито спрашивала сестра, поправляя на лбу белую шапочку и кокетливо глядясь в Матвея, как в зеркало в коридоре. Нет никого, одна она. Сразу куда надо везите.
Эти люди, они блуждали вокруг. Обступали его. Больница уже была не больница, а его странный странноприимный дом, его бедняцкая гостиница, где накладывали холодной каши в казенную тарелку, а по палатам носили в клетке волнистого попугая, чтобы он почирикал людям их глупые, людские слова, и они на миг забыли о своих страданьях. Птица в клетке! Они все тоже сидели в клетке. Только не вылететь уже из нее. Падают простыни на пол, их подхватывают и заворачиваются в них. И так стоят, в белых, в желтых тогах. Счастливы те, кому выдали цветное белье, розы, маки по подолу. Волнистый попугайчик картавит, скрежещет по-человечьи. Кривой клюв щелкает, раскрывается и закрывается. Да он не живой, а заводной! Игрушка! Попугая обступают люди в античных тогах, птица косит хитрым блестящим глазом, синим с золотым ободком, и хитро думает про людей: я настоящая, а вы все игрушки.
Люди перемещались по палатам и коридорам, шастали в отхожее место, несли в дрожащих руках грязные тарелки на кухню; и люди лежали, и лежачих было больше, чем ходячих. Лежачих надлежало жалеть больше, но внутри Матвея не осталось жалости. Подходя к очередной койке, он хватал все с ходу цепкими глазами: возраст, кость срастется плохо. Щитовидка, грубый шов, белые губы, голос низкий и хриплый, началась микседема, лишку правой доли оттяпали. Откидывал простыню. Отлеплял от живота пластырь. Удаляли аппендикс, а шов разошелся! И температура, и сколько? Под сорок? На стол, у больного перитонит, начинается сепсис! Не углядели! В хирургии много чего можно не углядеть; если с ножом лезешь внутрь человека, ты разрезаешь в нем вековые связи. Сокровище на куски кромсаешь. После склеиваешь, сшиваешь; напрасно.
Он шагал по больничному коридору тяжело, медленно. Входил в палату. Прикрывал за собой дверь. Клетка с говорящим попугаем стояла на подоконнике. Матвей садился на край койки и робко и мрачно, исподлобья, оглядывал палату. Так сундучный паук оглядывает свое ветхое богатство: тряпки, ложки, чашки, отрезы. Под сводами слепого потолка ходили слепые. Они не хотели видеть смерть. Шамкали смешными ртами. Обсуждали чью-то участь, не свою, нет. У кого мерзла голова, тот сидел на койке в вязаной шапке, и ноги кутал в одеяло. Вчера прооперировали рабочего речного порта, он упал с подъемного крана; его задранная нога торчала в туманном воздухе, белое березовое полено, прицепленное к железным стержням и подвескам. Так он будет лежать месяц, может, больше. Надо сказать близким, пусть веселые книжки ему принесут. Операцию делал другой врач, не Матвей: моложе втрое. В сыновья ему годился. Иногда больные в полутьме оборачивались к нему, и он дрожал: у них были странные лица его умерших сыновей и дочерей.
Чуднее всего в палатах было вечером. Вечерний свет менял лица и фигуры. Люди из больных становились царями, слугами, насекомыми. Гранитными, бронзовыми памятниками. Поднимали руки и так стояли, указуя путь. Зеленый маленький попугай вылетал из клетки и садился памятникам на плечи, на затылок. Молчал; нечего было сказать. Когда в окне, за грязным стеклом, появлялась первая морозная звезда, попугай смятенно хрипел: "Яша хар-роший! Яша хар-роший!" Все ему верили. Этот сумасшедший старый врач, зачем он к нам заглядывает? Он стоит в дверях, не заходит. Наблюдает. Какой врач, что ты мелешь? Нет никакого врача! Есть только эта, вот эта палата. Этот кусок жизни, и он ржаной. Погрызи его еще слабыми челюстями, пососи. Очень ведь вкусно. Вкуснее не бывает. Я ничего вкуснее не едал. И я тоже. И я.
Фигуры смещались, наплывали друг на друга. Заслоняли друг друга. Из трех делалась одна. Два глаза из-под круглого черепа, обтянутого вязаной шапкой, смотрели на Матвея, и он знал, тут не два глаза, а шесть. Сам воздух обращался в зрение. Плыл и выгибался крупной, круглой толстой линзой. Палата страдала дальнозоркостью. Больные глубоко вдыхали вечерний воздух – из открытой настежь стеклянной двери, из хлорного коридора, втекал в ноздри грубый запах кухни: вчерашние пирожки с капустой, нынешняя рисовая каша, горелый завтрашний омлет. Фигура в светлой, светящейся простыне подходила к окну. За окном угасал свет. Взамен наружного света свет теперь шел от мятой простыни, от плеч, укутанных в парчу и виссон. Царь, прокляни меня! Или благослови меня! Сгибались спины. Стукались об пол колени. Сильно, терпко пахло хлоркой. Глаза Матвея плавали под кустистыми, страшными бровями. Он наблюдал, как жизнь плотней запахивает тогу на груди. Как волочит за собою парчовый, жалкий подол. Его изорвала когтями эта полоумная птица! Скорей, скорей ее обратно в клетку!
А чуть позже в темной палате зажигались свечи, и больше сюда уже никто не входил и отсюда не выходил – люди застывали торосами над ледяною гладью постелей, и даже говорить они уставали, а этот доктор, чудик, он ушел или нет еще, да давно уж ушел, а он что, дежурный, а какая разница, если с кем плохо, он в ординаторской на кушетке спит. И без одеяла? Ну что ты, дурачок, с одеялом, конечно. И с подушкой. Как же без подушки. Спи-усни, угомон тебя возьми!
А нынче все эти больные, эти немощные цари и холопы вдруг пришли сюда, в его квартиру, смешались с его прозрачной, незримой роднею, и он теперь не мог достоверно различить, где родня, а где чужаки. Пытался рассмотреть их всех затылком. Мороз подирал по коже ссутуленной спины. Потные, скользкие ноздри раздувались. И легкие раскрывались, разлетались двумя парчовыми, ало-золотыми лоскутами. Когда он дышал, молчал, лежал, ел или шел, он анализировал свою хитрую физиологию: вот жидкость втекает в пищевод, вот суставы сгибаются и разгибаются, создавая иллюзию движения. Фокусы, усмехался он над собой, всюду фокусы! Нам только кажется, что мы живем. Ведь на самом деле мы не живем. А может, только вспоминаем о жизни!
Шорох шагов, шарканье подошв по полу; солдатские сапоги, стариковские тапки. Босые ноги бегут по сухой, как кость, половице беззвучно. Не девочка, бабочка: дрожит крыльями, они в золотой пыльце, перебирает лапками. Тонкое брюшка обсыпано серебристой, мелкого помола мукой. Сахарной пудрой. Печальная старуха склонила голову. На ее костлявых плечах дырявая простыня. Она пытается закутаться в нее, как в пушистую шубу. Шуба истлела. Осталась больничная бязь, вся в казенных черных печатях. А, да это же его покойная жена! А почему она старуха? Она же молодая! Такая поджарая, горячая степная кобылица! И играет под ним. И он на ней скачет, скачет вперед, все вперед и вперед, по голой и мертвой степи. Огненный шелк, раскаленные ребра. Это все тоже обман. Где кобылица? В земле. В длинном странном ящике, сколоченном из сырых, плохо струганных досок.
Люди молчат за его спиной. Ходят тихо. Мерцают глазами, руками. Тускло гаснут одежды. Горят пальцы, как свечи. Может, он во храме? Он туда не ходил. Он был всегда атеист, сначала красный галстук, потом комсомольский значок, застылая капля красной блестящей смолы; потом уличное дежурство, дружины, красная повязка на рукаве; потом подбивали вступить в партию, а он толком не знал, что такое партия, хотя во всех газетах хором гремели ей славу, но он ее боялся, как боятся змеи в песках или волка в зимнем лесу; и он отказался, и на него в больнице косились, шептались о нем в столовой и в курилках, а потом о партии забыли: Родина лопнула по швам. Ее сшивали новыми стальными иглами и новыми суровыми нитями, и он, уже бывалый хирург, наблюдал, как на Красной площади народ танцует бешеные танцы, как новым умалишенным танцем, хороводом, парами, вприсядку люди обреченно обнимают всю страну, больную, ослепшую, и дрожащими руками она ползает вокруг и впереди себя, осязает путь, – и не нашарит.
Пояс старого красного, длинного халата развязался. Он завязывал его, и руки тряслись. Кошка черною худой лапой трогала красную кисть.
Нет, это не храм. Это дом. Его дом. И нет страха. Или есть страх? А перед чем страх? Перед этим пресловутым переходом? Переход. Он прошептал его латинское название: репагулюм. Какой, к чертям, переход! Латиняне имели в виду преграду. Забор, короче! И он подойдет к забору. Может, очень скоро. Уже пора ему. И скажет: ну вот, дурак репагулюм, давай-ка и я через тебя перейду. А может, тебя просто повалить, забор треклятый? Уронить, разрушить? Пнуть тебя как следует – и станцевать на твоих деревянных костях?
Храм. Дом. Тьма. Люди за спиной. Они ходят за спиной. Время идет по земле мерными и тяжкими стопами. Матвей страшился обернуться. Он трусил увидать время в лицо. Закрывал глаза. Сильнее горбил спину. Он думал: время, у тебя слишком яркие глаза, горящие, острые, они проткнут меня насквозь. А я еще пожить хочу!
Сидел в кресле с закрытыми глазами. Затылок ощущал чужие дыханья. Когда-то они были родными. Вскочить, замахать руками! Отогнать назойливых мух. Призраки, родные и любимые, прочь! Вон отсюда, кыш, кыш! Холодно, насмешливо думал о себе: это работа психики, идет распад тканей, нейроны теряют силу, артерии мозга склерозируются, и делу конец.
Возник звук. Дверь открывалась. Входная? В комнату? Затаил дыхание. Губы стали холодными, а лоб мокрым. Вошли? Открыли замок отмычками?
Шаги. Медленные, осторожные. Они раздавались еще далеко.
Может, в прошлой жизни.
Я брежу, подумал Матвей, мне снится сон, и надо быстрей проснуться.
Шаги из прихожей переместились в комнату, где он сидел в кресле у окна.
Надо встать, думал Матвей беспомощно, обязательно встать!
Ноги ослабли, хилые макаронины. Он продолжал сидеть и думать о том, как он встает.
Во весь рост. И оскаливается страшно.
Важно сделать страшную маску, неподвижную, и ею, дикой, подземной, напугать бандита!
Кошка тихо, хрипло мяукнула.
Он вспомнил бандюков, что прижигали ему ступни утюгом. Он уже это все пережил; зачем Бог опять показывает это ему? Одну и ту же чёртову картинку? Ты забыл, Бог, я это затвердил уже, выучил наизусть. Сейчас отбарабаню без запинки.
Люди за его спиной потемнели лицами и засветились глазами. Лица сожрала тьма, а глаза разгорелись ярче, бешеней. Они стали сбиваться в кучу. Прижиматься боками, плечами друг к другу. Они словно мерзли и хотели согреться. Как в нетопленой палате, в выстывшей больнице зимней ночью.
Люди пожирали его сутулую спину и лысый затылок голодными, горящими глазами.
Он понял, почувствовал: люди хотели пищи, и ему надо было их – самим собой – накормить.
А он себя жалел, не давал кромсать никаким ножам.
Ах ты, хирург, сам-то режешь налево-направо. Сам… кромсаешь…
Шаги ближе. Ближе. Он зажмурился. Жмурься сильнее! Еще сильней! Сейчас из-под прижмуренных век полетят искры боли, и ты займешься пламенем и проснешься!
Шаги стихли.
Тот, кто стоял за его спиной, рядом с его мертвецами, молчал.
Было слышно только его дыхание: хриплое, медленное, редкое.
Хрипы звучали громче, когда он вдыхал, у него булькало в груди. Выдыхал человек через заложенный нос, носом свистел, как чайник. Смешно и страшно.
И запах. Этот никогда не чуемый им запах.
Гадкая, рвотная смесь пота, мочи, моченого хлеба, водки, опилок, соленой рыбы, дерьма, дёрна, земли. И немного, чуть, горелой сдобной корки и яблочной гнили.
Еще чем-то пахло.
Таким, что из него вытекли, будто быстро и крепко выжали его, быстрые, стыдные слезы.
Матвей медленно, со скрипом разгибая колени, поднялся из кресла. Выпрямить спину было трудно. Больно. И ни к чему. В его выгнутые лопатки, в позвоночник вонзался огонь этих чужих зрячих глаз, его обдавал этот безумный запах.
"Жаль… как жаль… надо в кармане халата дома всегда… нож таскать… а лучше пистолет… пистолета нету… где я возьму пистолет… и главное… теперь уже поздно…"
Теперь надо было только повернуться. Больше ничего.
И он повернулся.
Две черные кошки, с хвостами-крючками, безмолвно, недвижно стояли за ним. У его внезапно ослабелых, с робко согнутыми коленями, тощих ног.
Напротив него стоял лысый старый человек.
А может, долыса бритый. А может, молодой, он еще не понял.
Иглы, колючки вместо волос. Колючее лицо. Грязь на щеках. Будто плакал грязью.
Лицо человека было ему тесно. В нем он задыхался. Он глазами лез, вылезал из лица, глаза умирали на лице, проклинали все, что видели, и тут же воскресали.
Они еще могли воскресать, хотя вылезали из орбит, будто на рот лысого наступили сапогом и подошвою давят, давят, и хрустят кости и зубы.
Лохмотья на плечах. Дыры вместо куртки. Дыры вместо рубахи. Лоскуты мотаются. Вспыхивают заплаты. И опять зияют дыры, а в них светится тело, век немытое, дикое.
Не человек. Зверь. Только глаза человечьи.
Стоял он спокойно, чуть ссутулясь. Будто Матвея в зеркале отражал. В самом себе. Спокойно с виду, а внутри чуялась пружина: вот-вот вздрогнет, оттолкнется ногами от половиц и полетит. Куда? В окно вылетит? Как ангел Божий? Или чёртово помело? Слишком лысый. Гладкий до страха череп. Яйцо костяное, и разбить его рука тянется. Ни молота в руке, ни чайной позолоченной ложки. Скорлупа эта лишь чудится хрупкой. На деле она тверже железа.
Матвей обводил его глазами. Кто это? Скулы торчат. Щеки ввалились. Кожа обтягивает черепную кость. Голоден! Это грабитель. Это просто нищий! Он просто вперся к тебе пожрать. Как он открыл дверь? Ни ключей у него в руках. Ни отмычек. Ни лезвия. Плечом выдавил? Его железную, тяжелую как баржа дверь?
Матвей глаза на его ноги перевел. Ноги, Господи. Ноги. Эти ноги шли. И пришли. Дошли. Как они дошли сюда – в таких башмаках? Это же не башмаки. Это опорки. У сапог обрезали голенища изношенные, и вот то, что осталось, он истаскал вдрызг. Бродяга. Бедный.
Жалость вызвала в Матвее дрожь.
Он стал дрожать, сначала мелко, потом все крупнее, дрожь налетала судорогами и сотрясала его.
Глядел на него лысый человек, взгляда не отрывал.
Матвей дернул головой вверх и вбок, повел подбородком, пытаясь лицом от этого зрячего огня ускользнуть. Не получалось.
Запахом страшным тянуло, обнимало.
Матвей вытянул вперед руки. Будто хотел оттолкнуть бродягу.
И вдруг бродяга качнулся, сильнее пошатнулся – и, будто кто его косой хлестанул под коленями, кулем повалился на пол, к ногам сгорбленного, зверем дрожащего Матвея.
– Отец!..
Волос за волосом стали подниматься на голове Матвея; неудержимо восставали вкруг лысины жалкие волосы, это пламя над ним восставало, обнимая его темя мрачно-красным, обжигающим нимбом.
– Как… что…
Он внезапно ослеп. Веки наползли на радужки и зрачки. Принакрыли, упрятали от него видимый мир, и этого нелепого нищего на коленях, что так нагло, дико посмел к нему обратиться. "Это всего лишь насмешка. Абсурд. Ворвался сюда. Втек неведомо. Кем притворился?! Зачем?! Бандит, а нарядился жителем свалки! Боже! Я в Тебя не верю. Но Ты не дай ему надо мной… издеваться… этому… приблуде…"
Бритый бродяга стоял, как примерз к полу. Вошел и будто застыл; глаза застыли, руки заледенели. Губы не разомкнутся. Ой, нет, вот дрогнули и раздвинулись. Он скалился. Он… улыбался! Или сложил рот для крика? Для плача?
"Может, мне завопить и зарыдать первому? Опередить его? Обмануть?"
Руки протянуты вперед. Он сам шатается и вот-вот упадет. Нет опоры. И тяжести тоже нет. Оба невесомы. Это сон, и ему придет конец. Вот сейчас! Не приходит. Длится молитва. О чем безбожник молится? Дай вдохнуть воздух. Задыхаюсь. Я тону, и толща воды смыкается надо мной. Время всасывает меня в себя. Этот лысый зверь, зачем он свалился к ногам другого зверя, и оба дрожат? Дрожь слышна. Она слышна так же, как и запах. Остался только запах, а зренья нет, и боли нет, и мыслей нет. Есть еще слух. Но и он гаснет. Нищий шепчет что-то – он не слышит. Невнятный шорох доносится из чужой пересохшей глотки. Он хочет пить, Матвей, он долго шел по земле, дай ему напиться! Он замерз и изнемог. Неужели ты не дашь ему стакан воды? Не протянешь руку? Не уложишь на матраце своем, не укроешь теплым, верблюжьим одеялом своим? Матвей шел вперед, шагал, ему казалось, крупно, на самом деле он еле полз, ноги гладили половицы двумя холодными утюгами. Он стал видеть не глазами, чем-то иным. Видеть не только то, что моталось перед ним. А все сразу. Что сзади. Что за спиною этого лысого, бритого. Будто летел, висел вверху, под потолком. Свисала с занебесного потолка махровая, роскошная паутина. Лохмотья, коими был беспомощно укрыт бродяга, вдруг дрогнули, снялись с места, как лодки, что отвязали от причала, и тихо поползли вниз. Матвей испугался, что он весь сейчас обнажится, и станут видны его кровящие язвы, подсохшие струпья. Тогда надо будет его жалеть и любить, а как это сделать, если превыше любви в тебе страх поселился? Его внутренние, страшные глаза видели, как с левой ступни бродяги медленно свалился опорок, и оголилась натруженная, сбитая пятка.
Эта голая пятка ножом резанула его по сердцу. По закрытым, слепо плывущим глазам. Глаза косили из-под век, плыли вдаль, уплывали, прошивали скользкими рыбьими тельцами плотную, вязкую и прозрачную толщу, – чего: воды? времени? боли? смерти? – они еще оба живы были, и оба связаны этим чудовищным запахом: так грубо и гадко, а вместе дико и мощно пахнет жизнь, и значит, они оба еще не пережили ее, не переплыли, – не прожили, и она у них сейчас, вот теперь, одна – на двоих.
Матвей, слепой, шагнул ближе к упавшему на колени мужику с обритой головой. Красный халат падал с его плеч. Нет, красный плащ, и невидимый ангел поправлял плащ ему, опять набрасывал на дрожащую, потную спину. Матвей, преодолевая страх пустоты, пошарил в темноте руками, нашарил сначала лысую колючую башку бродяги, ощупал ее, всхлипнул, потом возложил руки ему на плечи, и плечи мужика под его крепкими, твердыми ладонями хирурга затряслись, затанцевали в рыданьи.
– Сынок мой!..
Это рот сам вылепил, за него. Он – не хотел.
Лысый-бритый нищий дернулся, будто под током. И опять застыл. Он повернул бритую башку и щекой прижимался к животу Матвея. Нежно, осторожно. Будто боялся грязной головой своей испачкать красные Матвея одежды, струи красного плаща, медленно стекающего с боков и груди. В шерстяном старом плаще зияли дыры. Они вспыхивали, как черные звезды, ткань разлезалась под руками. Нищий смиренно держал руки свои у себя на животе. Его повернутая набок голая колючая голова слабо светилась в полумраке. Свет гас в больших немытых окнах, а голая башка разгоралась, как нечищеная керосиновая лампа. Лампа такая имелась у Матвеева деда, он иногда чистил ее обшлагом рукава и потом медленно, вдумчиво зажигал ее, подвертывая фитиль, пощелкивая ногтем по выпуклому гигантскому опалу, овалу толстого стекла. Мрак завладел комнатой, а нищий все стоял на коленях, отвернув набок, как гусь, голову, и Матвей все держал ходящие ходуном слепые руки на тощих плечах, с них сползали ветхие гнилые одежонки и никак не могли сползти. Матвей не помнил, когда он брился, вчера, позавчера или неделю назад, а может, не брился уже никогда, потому что ему щеки согревала невесть откуда взявшаяся борода, он косил глазом на серебряные нити, сбегавшие с подбородка на грудь, и с ужасом думал: вот я уже и старик, – а руки глупо торчали вперед, под ладонями плыла и горела гниль чужих отрепьев, оба глазных яблока Матвея вращались под мелко дрожащими веками и вдруг стали падать, слепота на миг раздвинула шторы, и он плохо и мутно увидал – из-под алого его, изношенного плаща торчат его запястья, а они обтянуты красивой богатой тканью, он, оказывается, стоял тут в шальной сорочке, небось, из модного бутика, серебряные кружева умалишенной оторочкой бежали вокруг манжет, с виду гляделись как стальные; он даже подумал: вот, торчат мои бедные руки из железных кружев! но это же бабьи кружева, мужики такую дрянь не носят! – а серебристая парча блестела, посверкивала морозной дымкой, сизым инеем, и слепой глаз косил на торчащий деревянным мячом нищий затылок, от затылка шел призрачный свет, и Матвей думал, задыхаясь: вот, я все-таки вижу, вижу, не ослеп, спасибо Тебе, Господи.
Нищий внизу, под его дрожащими ладонями, завозился.
– Да… да… Отец!.. прости…
Слепые глаза косили и плыли вдаль и вбок. Слух умирал и возрождался. Из тьмы бежали прибоем светящиеся волны, плескали на ноги, на голую пятку бродяги. Матвей по-прежнему видел все целиком: и снизу, и сверху, и справа, и слева, и со всех сторон. И даже, вот ужас, видел то, что только будет. Испуг, и вместе радость. Так бывает! Он боялся: сейчас это все исчезнет. И бродяга пропадет. Он назвался его сыном. Что ж, спасибо ему за это. Завтра с утра надо пойти в аптеку и купить там феварин. Или реланиум. Сильные психотропные препараты пока жрать не надо. Это всегда успеется. Но психоз надо немедленно снять. Это же чистой воды психоз, Матвей Филиппыч! Ты же понимаешь, клиницист со стажем! Он все понимал, да. Но нищий в отрепьях, вздрагивающий под его руками внизу, притиснувший башку к его животу, понимал больше него. И лучше него. И выше. И чище. И, сквозь этот дурнотный, дикий запах – горячее, светлее. До слез.
– Марк?..
Мрак тесно обнял их, и во мраке они оба стояли, застыв: Матвей – в рост, бродяга – на коленях.
– Я, я…
Петлю накинули на шею Матвея, и так душили, и мокрой горечью и огнем, прожигая длинные шрамы на щеках и подбородке, выходили из него, из слепых глаз его все эти одинокие годы.
– Марк, сынок… Как же так… как…
Слух опять улетучился; он не слыхал, что испускали в темный воздух его омертвелые, соленые губы.
Мрак усилился, окна погасли, а потом опять разгорелись; в них загорелся ночной мир, и Матвей не мог достоверно понять, что там за окном – поздняя осень ли, ранняя ли ледяная весна, дрожащая ли зима, колышущая синий лунный маятник от оттепели до лютого колотуна, когда вороны и воробьи замертво падают с деревьев, обращаясь в мохнатые кусочки темного колючего льда. У времени теперь не было имени. Его можно было щипать за ягодицы, за безвольно висящую руку, за ногу, за нос, бить его кулаком в скулу и в затылок – ему было все равно. Оно прекратило течь и превратилось в бритую лунную голову бродяги. Луна брела-брела по небу долгие века и набрела наконец на Матвея. Уважила его старость. Сочинила ему напоследок глупую шутку про воскресшего сына.