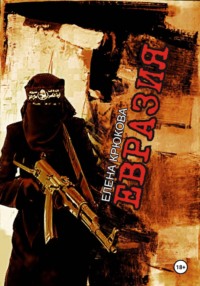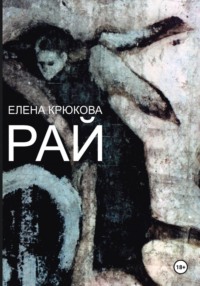полная версия
полная версияХоспис
Человек видит то, что хочет видеть. И верит в то, во что хочет верить.
Ну купил я это золотишко, купил, ну отстаньте вы все от меня. Какие же вы все гадкие! Все вы хотите уличить меня в чем-то. Я всю жизнь крал, а меня всю жизнь хотели уличить. Поймать за руку. И ловили, батя! Еще как ловили! Да я вырывался. А тогда, в Египте, не поймали; благополучно я прилетел в Москву, домчался до особняка папика, быстренько набил чемодан всяким добром, на улицу вывалился, шестеренки под черепом крутятся: теперь куда? на кудыкину гору? Отвык я уж за это короткое богатое время от нищей кудыкиной горы. Какой ты нищий, присвистнул я, ты же теперь богатый! Продал я Катькины египетские бирюльки крутому ювелиру. Ювелир на меня внимательно поглядел, все сразу понял, бестия, что я вор, не мои это сверкальцы, и ляпнул мне: ты, парень, хочешь, к лошадям приставлю? Я воззрился на старика: к каким еще лошадям? Он смеется, челюсти беззубые кажет, на голове шапчонка такая, умора, черная, бархатная. А в скрюченных пальцах лупа. "К таким, – отвечает, – к самым что ни на есть настоящим, в конюшню!" Вот так вышло: приплелся сбывать рыжье, а угодил под конские хвосты. Кульбиты делает судьба! Да я сообразил: лошади, богач, я снова буду при кормушке, да забавно это все, на лошади хоть скакать научусь, все польза. Я ювелиру кивнул, он мне кучу денег отсчитал, просто хренову тучу, у меня с собой никакого кейса не было, чтобы все это туда скласть, и старикан мне преподнес мешок. Ну да, что смотришь так, простой мешок, из грубой холстины, такой грубой – ладони обрежешь. Я туда купюры стряхнул и натужно, дико засмеялся. Смех из меня порциями выходил.
Ювелир тот на рваной бумажке мне телефончик начертил. Звони, говорит, не ошибешься, я тебе добра желаю. Мой дружок закадычный, гонорова шляхта, богач полоумный, на лошадках спятил!
Лошади, их запах. Навозец, конюшня просторная! Богач дельный оказался. Умный дядька, любо-дорого с таким поговорить. На дворе мороз, колотун, а в конюшне тепло, как в парилке. Лошади весело хвостами машут. Еда у них самолучшая, круче людской. Меня поставили начальником над подсобными рабочими: вроде как бригадиром. Конским генералом. Я раздавал команды. Чистили, кормили, выгуливали – другие. Спаривали – другие. Я только наблюдал и приказывал. Для этого мне надо было вникнуть в суть дела; я и вник. Вникал я во все быстро. А еще в то, что хозяин мой – последний недотепа, и справиться с ним будет проще пареной репы.
Лошади, лошади! Я скоро всех их знал по кличкам. Бать, лошади, они умнее, лучше и чище, чем люди. Они не оскорбят, не раздавят. Они тебя за руку не схватят, когда ты крадешь. Им это по хрену. Они животные, от слова "жить". Милые! Морды длинные, хвосты шелковые. Машут ими, трясут. Кожа бархатная. Глаже, чем у той красотки, шлюхи Катьки. Я, прежде чем в дом пойти и лечь спать, каждую в конюшне обойду, каждую по морде поглажу. Они ласково ржут. Приветствуют меня. Нет, точно, звери выше людей. Они не знают нашей ненависти. У них зло свое, и ненависть своя: да, они готовы убить соперника, но в честной борьбе. А мы? Я шел в дом, посреди полей стоял он, так я опять оказался близко от земли, я вдыхал ее запахи, и лошади мои выбегали на землю живую и резво скакали по ней, – и все-таки я ее уже не чуял, как чуяли мои кони. Я не мог разделить их веселого ржанья. Хотя с радостью заржал бы вместе с ними. Однажды оседлал вороного жеребца, гладкого, аж лоснился весь, какой откормленный, и долго на нем носился по черным полям. Стояла ранняя осень. Тоскливо мне было среди этих беспросветных полей. И навоз я устал нюхать. Хотя счет мой изрядно пополнялся. Богач мой щедрым был. Поляк, сам охотник, и из семьи охотников, и сам вдобавок знаменитый оружейник, сам выделывал охотничьи ружья и дорого продавал – ну такой охотничий Церетели, не иначе. Ружья с завитушками, с медными нашлепками, и одностволки, и двустволки, и даже берданки, тянуло его на ретро, он мне показывал ружьишки – я любовался, языком щелкал. Лысенький, высоченный, как Петр Первый, ножки длинные-тонкие, качается, будто бы подвыпил, глазки прозрачные, ледяные, на тебя глянет – полярным холодом обдаст; и зубы как у лошади, длинные, желтые, крупные. Трубку курил вишневого дерева. Дымок вечно над его лысиной вился. Собак держал: русских борзых. Ох и изящные! Грации полные штаны! Собаки по полю бегут, в струнку вытянутся, длинные мордочки свои по ветру вытянут, запахи земли жадно нюхают, а хозяин стоит, глядит на них из-под руки, шапку-конфедератку на затылок сдвинул, трубку сосет. Господин Высоковский, ексель-моксель. Тогда все в стране, помнишь, от товарищей плавно переходили к господам, да рот не мог привыкнуть. Сам себе господин! Я – владыка! Эх, да что ты говоришь! Врешь и сам себе не веришь! Я на ружья эти узорчатые косился, а сам думал: эх, стащить бы одно, самое красивое, и деру. Да, и тогда я уже подбирался к чужому добру! И уже задумывал побег! Меня прямо трясло от возбуждения, когда я помышлял об этом. О том, как с ружьем пана Высоковского по осенним полям иду, ну вроде как охотиться, только без лошади и без собаки, вообще без ничего, и, если мне уж до конца повезет, то со стащенным у поляка бумажником за пазухой. В те поры наличные деньжата были больше в ходу; это сейчас у всех в зубах карты, карты. А тогда бумаги еще шуршали. И у моего хозяина их водилось так много, что он запросто мог на черную пашню выбредать и сеять их в землю: по ветру. И проросли бы.
Деньги! Бать, вот ты задумывался когда-нибудь, что они такое? Что это за игрушки такие человеческие? Деньги, что это за чертовня? Вор понимает. Бать, вор – все понимает! Но, как та охотничья собачка пана Высоковского, остромордая и курчавая, тявкнуть не может: объяснить. Вот и я все понимал. И теперь понимаю. Деньги, бать, это мы сами. Деньги украсть – это все равно что у человека жизнь украсть. Все деньгами измеряется. Дома, деревья, лошади, судьбы. Думаешь, я пошлый такой? Что, сидишь глядишь на меня, зыришь и думаешь, что вот я всю жизнь только и думал о деньгах?! Врешь, бать. Не только о них. Но я твердо и отлично усвоил: за тебя заплатят ровно столько, сколько ты стоишь. И ни копейки больше. Даже если ты задумаешь покупателя обмануть. Не выйдет! На роже у тебя висит твой ценник. И цифры эти текут в твоей крови.
Правда, знаешь, были моменты, когда я уговаривал себя, ну, как девушку уговаривают пойти с тобой в постель: ты, ну брось кобениться, брось выдумывать, на себя наговаривать, ты же прекрасно знаешь, есть высшие драгоценности, есть сокровища круче, чем счета в банках, а что это за сокровища, а погляди-ка, а догадайся, недогадливый, разве красота не сокровище? разве поцелуй не сокровище? разве ребенок, твой ребенок, долгожданный, не сокровище? разве, черт дери, мир на твоей земле, когда снаряды не рвутся, когда не рвутся бомбы в метро или на стадионах, – мир блаженный, счастливый, – не сокровище?! Да пусть в этом мире нищие по улицам шастают! И бомжи на вокзалах дрыхнут! Пусть люди в этом мире друг друга подсиживают, обманывают, вцепляются друг другу в хари, ласкают и милуют друг дружку, да хоть на голове стоят, да хоть костры на Красной площади жгут, – а все равно это все мир, не война! И все они – не погибают! Ах, ха-ха, а своею смертью – помрут. Что уже хорошо, не правда ли?
Так я уговаривал себя, внушал себе праведные и чистые, благородные мысли, а дьяволенок, что жил во мне, крепко он во мне поселился, глубоко внутри, всеми когтями вцепился, мне нашептывал поганенько: вот, гляди, внимательней гляди, девушка красивая, и глядит так мило, так сердечно, ну сразу видать, душа-человек, – а на деле ей за гадость хорошо приплатили, щедро, и она сделала эту гадость, совершила, и не охнула! Гляди, вот дядька представительный, грудь выпятил, орет с трибуны о благе и силе, о развитии и мощи, – а дядьке-то классно заплатили, чтобы он все эти лозунги – прилюдно орал! Чего человек не сделает ради денег! Да все сделает!
А потом наступал вечер. И я оставался один. В новой квартирешке, я снял ее за гроши около дальней станции метро, в бедном квартале, домишки такие, нищета на нищете сидит и нищетой погоняет, с новым, между прочим, паспортом за пазухой, и на чужое имя, мне совсем не улыбалось, чтобы меня взяли и цапнули. И – в каталажку. Все, закончилось кино. И вино, и домино, и богатые попойки, и рысистые лошадки. А ружьишко-то я так и не стащил у пана Высоковского. Так и не стащил. Жалею. А что жалеть. Я бы все равно не смог его с собой по жизни своей таскать.
Ружьишко не спер, зато бумажник спер. Мне пан Высоковский спел однажды старую песенку, времен его детства, должно быть: "Пока смотрел "Багдадский вор", самарский вор бумажник спер!" Хохотал, кофе попивал, я тоже кофе из золоченой чашечки отхлебывал, косился на новое ружье, мастером сработанное: оно лежало на кровати, поверх китайского шелкового покрывала, с крупным, как цветок, медным завитком на цевье. Я частушку ту воспринял как руководство к действию. Старый пан поперся спать. У него была жена, да померла; он мне в альбоме ее фотографии показывал. Когда-то красавицей кокетничала, по слухам, отменной портнихой была: пол-Москвы баб к ней ездило наряды заказывать. Всему бывает конец. Я сидел и допивал кофе. Пан в соседней спальне захрапел. Он доверял мне. Я не знаю, почему, но люди с ходу доверяли мне. Я быстро втирался в доверие. Это тоже дар. Не каждому дано. Дверь в спальню пан не запер. Я осторожно вошел, под музыку этого длинного храпа подкрался к стулу, на спинке висел пиджак. Просто – пиджак! Без всякого там сейфа! Дурак ты, хозяин. Не так надо жить. Я вытащил из кармана бумажник, пробрался к себе в каморку, вскинул сумку на плечо. На первой попутке удрал. Ночью очутился в Москве, и это была чёртова ночь.
Вот так ночь! Всем ночам ночь! Я и не думал, что в Москве такое может быть. Выстрелы. Прохожие бегут. Головы руками закрывают, приседают. Вопят: "Снайперы! Снайперы! На высотках!" Грузовики по дорогам тряслись. Откуда-то издали надвигался ужасающий гул: это шли танки, я понял. Танки в центре столицы! И вот уже на улицах костры горят. Я так мечтал о живом огне, и вот он явился. Люди бежали, и я поддался общему безумию, я тоже побежал. Бегу, задыхаюсь. Куда бегу, не знаю. Вдруг в ночи передо мной – дом. Я его не узнал! С виду как мощные белые соты. И горит. Черный дым из него валит, и белая стена уж вся почернела. И вот они, железные могучие коробки, прямо на меня прут, нет, на всех людей, что толпятся, бестолково грудятся, качаются и отскакивают, и снова напирают, не знают, куда бежать, а все равно бегут! И я, бать, вижу, как прямо передо мной падает мужик, ему грудь пробило, и еще второй падает, асфальт ногтями царапает, а я-то прямо за ними бегу! Гул нарастает. Танки за нами. Я внутри варева, ну и месиво заварилось! Не выберусь. Страшно завопила женщина. Схватила ребенка за руку, тащит, а он ноги подогнул, и она его по земле волочет. Как куклу тряпичную. А тут рассвет. Тусклый, серый. И все видать стало. Все лица, пушки танков, все убитых. По асфальту дорожки темной крови. Я впервые видел бойню. Считай, что видел войну. Любое убийство – война. Потом замазывай не замазывай содеянное. Человечишко так устроен, что ему лишь бы себя оправдать. Бьет себя в грудь кулаком и кричит: я хороший! я хороший! Часто он кричит это сам себе. А громко орет, как глухой. И что думаешь? Он себя в этом убеждает. Что он хороший и даже, черт, святой. Если самому себе все время твердить: я святой, я святой, я святой, – поневоле святым станешь.
А каково это, батя, когда свои – своих бьют? Сидел ты тут, в нашем городе на реке, вдалеке от Москвы, и ничего этого не видал-не слыхал, а тебе о бойне этой даже в газетах не рассказали: властям не нужна правда. Правда всегда вывалится наружу, да лишь по прошествии времени. После драки вдруг замашут кулаками. И закричат: вот правда, правда! А какая она, эта правда? Какие деньги заплатили властям, чтобы они свой народ расстреляли? Какие деньги заплатили танкистам, снайперам? Снайперы метко били. Винтовочки с оптическим прицелом, новейших марок. Пан Высоковский такими бы гордился. Кто его знает, пана, может, он и оптикой занимался. Сбили его оптику! Сбили мою! Сбился прицел. Куда бежим, черт, а?!
Чьи-то руки меня, чую, тащат. Так, соображаю, значит, это я упал. Значит, тоже подстрелили! Но, черт, почему же не больно нигде?! К себе прислушиваюсь. А меня по асфальту тащат. Штаны мне обдирают. И кожу на локтях и на икрах – до крови. А вокруг свист. Это пули. А потом: бабах! Это снаряд рвется. И я смутно думаю: сейчас в меня шарахнет. И, знаешь, никакого страха нет, ну, что вот сейчас сдохнешь. Да сдыхай на здоровье, примерно так о себе любимом думаешь. Я не вру, нет. Я слишком много в жизни врал. Перед смертью врать нельзя. Не ты жизнь себе подарил, не ты ее у себя должен отнять. Дать – отнять! Я бы этим, кто у орудий, и кто, скрюченный, на шпилях высоток сидит, так и крикнул, завопил прямо в уши, и чтобы у них барабанные перепонки полопались: не ты дал! Зачем отнимаешь?!
Бесполезны все эти крики, батя. Честно, бесполезны. Один я, что ли, так захотел покричать? Да сто тыщ, мильён народу. А толку. Вот заложили меня внутрь железного пирога живой начинкой, внутрь пушки снарядом заложили, и сейчас как рванет, глаза повылазят, костей не соберешь. И начинка из пирога наземь поплывет, красная. Соленая, не сладкая. Те, кто так близко видал смерть и глубоко вдохнул ее, затянулся ею, как сигаретой, те уже не боятся, черт, никаких злачных мест.
И я не боялся.
Меня по асфальту, под выстрелами и разрывами, протащили, в подъезд втащили, по лестнице на верхний этаж втянули. В комнате, огромной, как корабль, сильно накурено. Хоть топор вешай. Мужик ко мне подходит. Ножницами на мне куртку, рубаху разрезает. И отдирает от меня прилипшие лоскуты. Я кричу от боли. Это меня подранили, и ткань к ране присохла. Мужик поливает меня водкой, прямо из бутылки. Ватой промакивает. Цыкнул на меня: "Хватит хныкать!" Я замолк. Он нож водкой полил, потом ею же полил, черт, не поверишь, обычные плоскогубцы. Говорит мне: ну, молись! Подбородок небритый. Щеки синие. Зубы под губами поблескивают: один живой, один серебряный, потом дырка, потом опять железный, потом снова живой, желтый. Вот так доктор! Всем докторам доктор! Сейчас меня резать будет! Как барана!
Я набрал в грудь воздуху. Пока вдыхал, мужик меня и полоснул ножом. Распахал рану, как плугом. Запустил в нее плоскогубцы, через мгновенье пулю вытащил и у меня под носом ею повертел, и кровь с пули капнула мне на губы и по подбородку ползла. Вот, смеется, лучше меня хирурга в Москве вашей чертовой нет! А потом пулю как швырнет только Она полетела в стену и врезалась в батарею. И зазвенела. Я лежу, слезы по щекам текут, я и сам как пьяный, а мужик этот небритый горлышко бутылки мне ко рту подносит и в зубы сует: на, на, не робей, глотни! Сейчас водярой рану твою глупую залью, и перевяжем!
Он так и сделал. Я потом с ним сдружился, с Хирургом. Понял я, куда угодил. Малины, хазы, притоны, катраны, стрелки забить, отхватить, оборваться. Научился я говорить по-ихнему. Нехитрое дело. Любили меня мои бандиты, и я их любил. А что? Они же люди.
Я ползал по дну Москвы. Ночлеги случайные. Хаты съемные. А назавтра гонят: облава. Залы с лепниной. Люстры алмазные, величиной с целое озеро. Бедняцкие малины. Все я видывал, через все проходил. Бать, я был чистой воды проходимец, и я этим даже гордился: вот я какой тип, увертливей ужа, в огне не горю, в воде не тону. Талант жить! Не всякому он дан. Это как один может стать музыкантом, ну, просто виртуозом, а другому хоть кол на голове теши, – не сможет. Медведь на ухо наступил? Люди, люди на уши наступили. И сапогами всю ряшку в кисель расквасили. Люди не терпят рядом с собой того, кто лучше, круче, сильнее. Это зависть, бать. Простая, как спички или мыло, зависть. Спички, сахар, соль и мыло, это было, было, было! И зависть была. Всегда. И никуда ее человек от себя не прогонит, как собаку. Сидеть, зависть! Тубо! Пиль! Так пан Высоковский своих борзых дрессировал. Ну, дескать, нельзя, а потом можно. Если нельзя, но очень хочется, значит, можно. Вот и я себе говорил: нельзя красть, плохо, грешно, все это осуждают, гадко это, пошло, рвотно, отвратно, – но уж очень хотелось мне присвоить чужое, такое, что играло и сверкало; или что обозначало крутую власть; или красотищу необыкновенную; или вообще чужую жизнь взять да и сделать своей, – ну это высший пилотаж, и до этого, бать, мы еще дойдем, я и это в результате сумел. Хмели-сунели! Съели-сумели! А ты пройдоху-жизнь возьми и с собою зарифмуй! Как эти, прощелыги-поэтишки, что, завывая, тогда по всей Москве, во всех кафешках, куда ни забеги перекусить, читали свои никому не нужные стишата! Я никогда не любил поэзию и не запоминал слова. Люди плюют слова на землю, и они шуршат у них под ногами, это все мусор, ты сказал слово, а через миг оно уже мертво, и ты его окурком под сапогом давишь, давишь. Зайдешь в грузинский ресторанчик на Никитских воротах, попить настоящего саперави, там настоящее было саперави, такое густое, лиловое, аж синее, как сладкая грязь, в бутылях, оплетенных сухой лозой, все по делу, и ресторанщик, старый Заури, нашептывал мне: вах, слюшай, друг, вино чюднае, выдер-жива-ли в наста-ящих гли-няных квеври. Квеври, бать, это такой глиняный кувшин, порой бывает в рост человека величиной, забоишься, и его наполняют виноградными гроздьями и закапывают в землю. Ты понял? Нет, ты понял? Что виноград надо похоронить, чтобы получить вино? А нас? Нас что, надо тоже сначала похоронить, а потом только мы станем вкусные, сладкие, чистенькие, душистенькие, святенькие, светленькие, безгрешненькие?! Разве не так?!
Нет так… говоришь, не так… А по-моему, так. Сначала тебя закопают, а потом закричат: он велик! он прекрасен! круче его нет! почести ему! слава ему! слава! И запрыгают вокруг твоего гроба. А тебе-то что? А ничего. Лежишь себе в деревянном бушлате и ничего не чуешь. И по хрену тебе все: и вопли, и сопли. Что ты видал в жизни? Да лихость одну. А свободу – в кредит и в рассрочку. Порциями скудными, ломтиками тебе ее отпускали. Да кричали из-за прилавка: дорогого стоит! А вот вам всем. А украду я вашу дорогую свободу! Вору чем лучше? Тем, что он не связан ничем по рукам и ногам. Вор сам себе Наполеон, сам себе Гитлер, Сталин и Пиночет. А захочет – будет добрым барином. А захочет – станет милосердным самарянином! И какого-нибудь важного индюка – от смерти спасет. Индюк захочет вора наградить, а вор только ухмыльнется: а зачем мне твои алмазы? Рубины, сапфиры твои? Счета твои немереные? У меня есть более драгоценные вещи. Снега! Ветра! Поцелуй в подворотне! Попойка дружеская! Река подо льдом, и солнце лед ломает, и дыбом он встает! Воля у меня есть, индюк, воля! Я где хотел – там денег и добыл! А ты крячишь на них, горбом их зарабатываешь! И горб уже больше тебя стал! Для горба тебе – отдельный гроб сколотить надо!
Люди, люди. Бандиты тоже люди. Батя, я жизнь прожил, я понял: преступников нет. Нет! Или все преступники и воры, все, до единого, или – все чистые, чистейшие как стеклышко! Во всеобщую чистоту я мало верю. Значит, преступают все. Так или иначе. Малое или великое. Но преступают! Почему священник в церкви заставляет прихожан каяться? Значит, в помине нет безгрешных? Я жил среди бандитов, они мне говорили, как надо жить; не то чтобы диктовали, но я у них многое перенимал, а как же, я же был молодой, зеленый, а они были бывалые волки, матерые. Они научили меня, не смейся, щелкать женщин, как орехи. Бабы, ведь это же орехи! Вкусные, кедровые; масляные. Только надо умело положить орех на зуб. И вовремя. Охота на баб, это был у моих бандитов оригинальный такой спорт. Как преследовать. Как поймать. Как разделать. Как вынуть все, что надо, и правильно засолить. Как аккуратно зашить, чтобы грубого шва не было видно. Что, дохлая? сейчас оживим. Зомби, вперед! Прижигали каленым железом, и мертвячка выскакивала из обитого кружевами гроба с диким криком. Ага, живехонька! Ну как там оно, на том свете? Кулебяками угощают, красной икрой? Нет? Плохие же у них повара. Платьице напялить и в спину толкнуть, в загривок. Ступай! И никому не рассказывай, что ты воскресла.
Времена шли и проходили, время тоже, как и я же, было – проходимец, оно прошмыгивало мимо богатых и бедных, мимо норковых шуб и розовых лососей, и мимо модных рестораций, где голые девки терлись телесами о стальные пилоны, а другие трясли грудями меж столиков, кланяясь господам, собирая с них постыдную дань. Сколько насобирают – столько и проедят! Еда, питье становились все дороже. Выжить могли только те, кто гнул спину. А хорошо жить могли те, кто ловко себя продавал. Ну уж я-то себя не продавал! Я, вор, да чтобы когда себя продавал! Да никогда!
Себя я тогда не продавал, да. Еще – не продавал. А – предавал?
Бать, может, я в первый раз предал себя, когда пошел в подпольный бордель?
Дома терпимости в Москве тогда располагались на квартирах. Росли как поганки. Просто квартирка, трех, четырехкомнатная. И с виду просто вечерушка банальная, нечего личного, чисто пожрать и тяпнуть, девочки поют под гитару, угощаются, винцо там, коньячок. Направились мы туда с мафиком одним, по фамилии Сухостоев, я с ним давно познакомился, когда Антон, ну, режиссер, меня к своим ребятам впервые привел. Лысый, крупный такой, массивный! тяжелый, грузный! многоуважаемый шкаф! Когда он шел, все думали: вот доменная печь ожила и идет. И жаром пышет. Что, думаешь, я не видался больше с той компашкой? С Богатовыми, старшим и младшим, с Катькой-златовлаской? Что паспорт я смастрячил новый – и всем привет от старых штиблет? Ха! Видался. И по телефону трепался. Жизнь моей земли шла мимо меня, а я шел по ночным улицам Москвы, пропадал в ночных клубах, Сухостоев возник, как гриб из-под земли, везде по злачным местам меня с собой таскал, чтобы я, значит, жизнь в лицо увидел, а Антон меня даже не ругал за ту египетскую историю, ржал как конь и бормотал: "Катька, да она же кастрюлька с дыркой, да ее давно пора было вот так за хвост подвесить! Я отцу скажу, ты не тушуйся! Да я съемки… да я фильмец…" Я оборвал его: Антошка, не надо мне никаких твоих отцов и никаких фильмецов, все, завязал, новый жизняк у меня пошел. Ты уж меня не тревожь, а? Я сам поплыву. Как акула! Империализма! Ха, ха… ха…
Антошка выслушал меня, хмыкнул и воздух губами втянул, и немного подумал, и я ждал, что он скажет. Вдруг длинной речью разразится? Про честность, про порядочность. А он только выдохнул: "Хороший ты вор, Марк. Умелый. Совершенствуй мастерство". И я не знал, обижаться мне на это или гордиться, пыжиться как павлину, что меня так похвалили. И я понял: Антошка так не умел, как я, и тут он мне завидовал. Плохой вор завидовал хорошему вору. Его искусству.
Вот тут она вся и началась великая полома, с мафика этого гололобого, с Сухостоева. Предложил он поразвлечься. Я клюнул. Я тогда вообще на все клевал. Я – мир через эту рыбалку открывал. Лысый Сухостоев внушал мне: через женщин делаются все великие дела, запомни! Им – власть дана такая, какая нам и не снилась! Я не верил в это и втихомолку хохотал над этим. Власть – кровное дело мужчин, кто ж спорит. Тут и спорить нечего. А Сухостоев знай валит свое: бабы, это цветник! Научись сначала полевые цветочки рвать! А потом можешь и тюльпаны выкапывать с луковицами, и царские лилии! Упражняться надо. Практика, великая вещь. Практикуйся! практикуйся!
И мы двинули практиковаться. Когда в дверь позвонили, лысый шепнул мне: "Шалавы тоже разные бывают, бывают из-под моста, а бывают из-под тени трона". Мы что, на кремлевский раут шпарим, оборвал я лысого невежливо, и тут замок затарахтел, и мы, как были, в дубленках и мохнатых шапках, воротники в снегу, ввалились в квартирешку, и помню, сильно пахло пачулями. Девицы расхаживали в черных кофтах, но без юбок, в одних сетчатых черных колготках, в туфлях на высоченных каблуках. Одна цокала каблуками по паркету, ногу подвернула, заорала от боли, стала на бок валиться, я ее поймал. Держу ее под мышки, полуголую, и пачулями все сильнее пахнет. Это от нее, значит. Я не помню, что я ей говорил. Что она мне отвечала. Помню, как улыбалась. Улыбалась очень хорошо. Светлые такие зубки, белые. Выбеленные, наверное. Такие великолепные. Будто царица идет по залу в короне, улыбается подданным, и все перед ней приседают. Перед моей путаной никто не приседал. Хозяйка вошла в комнату, где мы сидели, воззрилась на нас, одетых, и что-то спросила. По-английски, я понял, будто мяукнула. Моя путана сказала "мяу" ей в ответ, встала и сбросила с себя сначала черную кофту, затем лифчик, затем ловко и быстро стянула колготки. Я мог оценить ее голую стать. Церемонно поклонился, взял ее ручонку и поцеловал ей кончики пальцев. А потом мы увалились в постель и долго барахтались; не помню, полдня или больше, спали, просыпались и опять танцевали лежа. Лысого я не видел. Может, он уехал раньше, чем я попрощался со своей путанкой. Я заплатил ей много. Очень много. Она мне очень понравилась.
А назавтра я был и правда на приеме в Кремле, вот смеялся-смеялся и досмеялся, и взаправду в Кремль вперся, и смокинг на мне, и галстук с алмазной булавкой, и влиятельные люди вокруг меня шастают, или это я вокруг них вьюсь, что в итоге одно и то же.