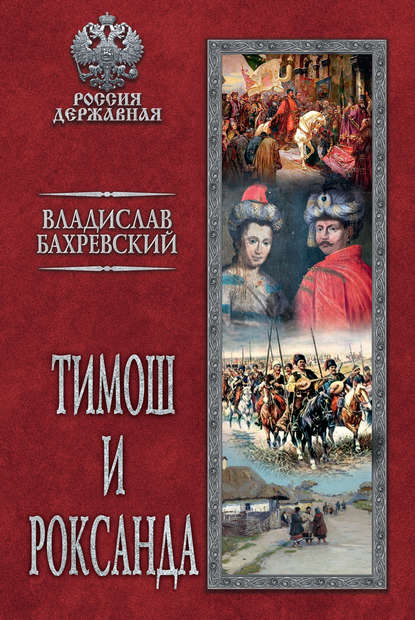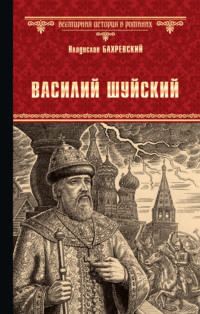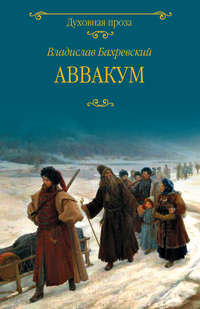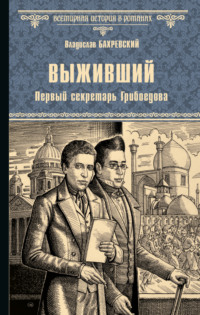Полная версия
Гетман Войска Запорожского
– Стало быть, он тебе мешает? – напирал пан Чаплинский.
– На земле места много, – уклончиво ответил Захария Сабиленка. – Я никому не желаю зла. Я просто знакомлю вашу милость с местными делами, нравами и обычаями.
– Хорошо! Я избавлю мир от пана Хмельницкого.
В ту же ночь пан Чаплинский пригласил своих друзей на мальчишник.
Краковяк по рождению, пан Чаплинский был человеком набожным, потому и мальчишник его начался богоугодным делом. В обычае у краковяков ставить вдоль дорог кресты перед важным поворотом в жизни, а пан Чаплинский собирался жениться. Памятуя о грехах, крест он соорудил своими руками чуть ли не из целого дуба. Везли крест на двух лошадях. Врыли за версту от Чигирина на видном, высоком месте.
Постоял пан Чаплинский у своего креста, осенил лоб знамением Христовым, а потом сиганул с земли в седло, сверкнув сатанинскими глазами:
– Гееей! – и только пыль закучерявилась за вольной братией.
Пили, скинув жупаны, в дружбе мужской клялись навечно, а потом взгрустнул пан Чаплинский, достал с груди ладанку, подарок пани Хелены, и, держа ее в ладонях, как птенца, дивно спел старую песню:
Сосчитай, дивчина, звездочки на небе.Столько я шагов сделал к тебе.Столько же раз я вздохнул о тебе.И если бы я сделал это во имя Божие,То давно был бы на небе,Я уже почти и был там.Но как увидал тебя,Соскочил оттуда к тебе.Поцеловал ладанку пан Чаплинский, кинул ее за пазуху, и снова в глазах его полыхнули красные языки адского огня.
– Други! Невеста моя – царица мира! Клянусь! Не в силах я противиться сладким чарам супружеской жизни, сам надеваю на себя оковы, но нынче я еще человек вольный. И не будь я пан Чаплинский, чтоб не побаловать себя напоследок. Старый черт Хмельницкий держит под замком столь прелестную кобылку, которую не увести у него и не объездить – значит принять на душу тяжкий грех! Кто поможет вашему товарищу в святом этом деле?
– Все как один! – гаркнул пан Комаровский, и все шляхтичи в который раз опрокинули кубки за дружбу.
– Как ту кобылку величают? – спросил у пана Чаплинского друг его ближний пан Дачевский.
– У свиней и имена свинские! Королеве дали имя – Матрена!
– Отнять Матрену!
– Перекрестить!
– Пусть будет Елена!
Так кричали перепившиеся друзья, и пан Чаплинский слушал их с пьяным усердием, а потом тряхнул оселедцем.
– Верно говорите! Отнять и перекрестить. И пусть будет Еленой. Чтоб язык мой, когда придет черед расточать ласки жене, ненароком не споткнулся на свинском имени. Заряжайте пистоли да ружья! Поехали.
8
Тимош ворвался в хату Карыха. Пусто. Аж зубами хлопец скрипнул из-за промашки своей.
– Да ведь он же у Гали Черешни!
Бежал, спотыкаясь: бессонная ночь, тяжелая выпивка – пудовые ноги.
– Карых! – крикнул у сеновала, не таясь.
Карых скатился к нему, делая знаки, чтоб унялся.
– Не ори! Родителей Галкиных разбудишь!
– В Суботове стреляют. Где твой самопал? Коня мне!
Стрельба гремела уже вовсю.
Не успел Карых сон с лица отереть, из хаты выбежал отец Гали, Остап Черешня.
– Что за пальба, хлопцы?
– У нас стреляют! Коня бы мне! Да хоть саблю какую.
– Галю! Оксана! Девки! – На улицу высыпали полуодетые дочери Черешни, все семеро. – Будите соседей. На Суботов напали. Седлайте моих коней, хлопцы.
Когда отряд прискакал на хутор, там уже все было тихо. Казаков встретил на крыльце сам Хмельницкий.
– Спасибо, соседи, что не оставили в беде.
– Да ты как будто и сам управился! – сказал Остап Черешня. – Уж не татары ли набегали?
– Пан подстароста с пьяных глаз. – Увидал Тимоша среди казаков: – Спасибо, сынку, что поторопился к отцу. Они, я думаю, ушли, завидев вас.
– Чего он хочет от тебя, Богдан?
– Пан Чаплинский-то? Хутор мой ему нравится. Хочет меня из дому выставить… Так-то, казаки. Уж такая теперь у нас жизнь. Приглянется поляку дом украинца, так того украинца – взашей… Езжайте, казаки, по хатам, солнышко взошло. Днем разбойники спят.
Рядом с отцом Тимош увидал татарчонка Ису с ружьем в руках. Понравился ему вдруг татарчонок.
9
В полдень Богдан Хмельницкий приехал в чигиринскую канцелярию. Предъявил грамоту на владение хутором Суботовом.
Канцелярист взял грамоту, прочитал и передал писарю:
– Перепиши грамоту в книгу. А ты, пан сотник, зайди через час. Все будет сделано.
И умен был чигиринский сотник, и хитер, недаром войсковым генеральным писарем его избирали, а тут не угадал, не почуял подвоха.
Вышел из канцелярии, сел на коня, раздумывая, где переждать час времени. Окликнули. С горящей бумагой в руке, держа бумагу вниз, чтоб горела лучше, облокотясь на косяк двери плечом, стоял пан Чаплинский.
Пока догадка подпаливала отупевший мозг пана сотника, грамота в руках подстаросты успела сгореть. Пан Чаплинский бросил черный скрюченный свиток на крыльцо, подождал, пока дотлеет, наступил на пепел ногой, растер и остаток смахнул с крыльца носком сапога.
– Лови свой привилей, пан Хмельницкий! И убирайся прочь с хутора. Эти земли пожалованы мне.
Хмельницкий шлепнул тихонько коня по шее.
– Я еду к судье, пан Чаплинский.
Подстароста заметил вдруг, что обе свои руки на пистолетах держит. Тихонько вздохнул, глядя в спину Хмельницкому.
– Вина! Всех пою! Мой враг сломлен.
10
Тимош обучал Ису игре в «хвыль». Сдавали по семь карт на пятерых. Чтоб игра получилась, пришлось принять дивчинок: Степаниду, Катьку и шестилетнего Юрка. Козырная дама и была «хвылью», высшей картой. Владелец «хвыли» брал «хлюст» – масть – и щелкал трех игроков «хлюстом» по носам, четвертого не трогал. Это его «подручный». Из карт подручного и своих он выбирал четыре козыря и начинал игру против «битых», которые тоже составляли общую четверку.
Первый ход был обязательно с «хвыли», и, если хвыленщик набирал три взятки, он и стегал каждого из противников по разу, если проигрывал, били его и подручного, но уже по два раза.
Тимошу везло. В подручные себе он выбирал всякий раз маленького Юрка, который в игре не смыслил, но козырной туз с ним не расставался.
– Я не буду так! – горько заплакала Катька, она была старше Юрка всего на три года.
– Терпи! – процедил сквозь зубы неистовый Иса, сверкая глазами. – Сейчас мы ему! Сейчас!
Но «хвыль» снова пришла к Тимошу. А вот карта к Исе: козырные туз, король, валет, десятка.
Иса претерпел от «хвыли» очередной щелчок, сложил карты и дал их разобиженной Катьке:
– Ходи!
– Я хожу, – возразил Тимош, почесывая затылок. – «Хвыль» ходит.
– Чего медлишь тогда? Ходи! – В груди у Исы клокотало нетерпение.
Тимош получил на «хвылю» валета и отдал три взятки.
– Ну! – сказал Иса, потирая руки. – Бей, Катька, первая, а я буду второй.
Катька взяла карты, подошла к брату, размахнулась. Тимош быстро-быстро заморгал глазами.
– Бей! – крикнул Иса. – Жж-ги!
– Мне его жалко! – У Катьки опустилась рука.
– Нас они били! Им было не жалко! – Иса даже на ноги вскочил.
Катька вздохнула, подняла ручонку, Тимош снова заморгал, и девочка отвернулась от брата.
– Не буду его бить.
– Тимош, бесстыдник! Так нечестно! – В голосе Степаниды дрожали слезы. – Чего разморгался?
– Дай, Катя, мне карты. – Иса потрогал свой красный припухший нос и даже зажмурился от ожидавшего его удовольствия.
– Да лупи ты скорей! – сказал ему Тимош. – Один раз выиграли, а уж раскудахтались! Правда, Юрко?
– Правда, – согласился Юрко, морща личико, он боялся расплаты.
– Не торопись! Сейчас получишь! Сейчас! – Иса размахнулся.
В тот же миг от удара сапога дверь бухнула, и в комнату ввалился пьяный пан Чаплинский с ватагой.
– Где Матрена? Найти! – пошел по горнице, пиная ногами сидящих на полу детей.
Тимош вскочил, ударил кулаком Чаплинского по носу, брызнула кровь. Пан Чаплинский взревел, схватился за саблю, началась свалка. Одни крутили руки Тимошу, другие держали пана Чаплинского.
– Не пачкайся! – обнял пан Комаровский своего свирепого друга. – Я этого щенка засеку!
– Засеки! – скрипел зубами пан Чаплинский. – Где Матрена?
– Ищут.
Тимоша связали, выбросили на улицу.
– Вон к этой бабе его поставьте, да так прикрутите, чтоб стоял, когда и ноги у него подогнутся! – Пан Комаровский яростно тыкал рукой в сторону большой каменной бабы во дворе.
Тимоша привязали к идолу лицом.
– Целуй ее! Целуй крепче! – Пан Комаровский ременной плетью перепоясал хлопца крест-накрест.
– Ох! – вырвалось из груди Тимоша.
– Ага! Почуял?! – Пан Комаровский хлестал и справа, и слева, и слева, и справа. – За благородную кровь тебе, хам! Хам! Хам!
Выдохся, бросил плеть жолнеру, вытер вспотевшее лицо шелковым платком.
– Что стоишь? Бей!
Плеть засвистела.
Из дома выбежал пан Чаплинский.
– Нет ее! Сгинула! Что делать? Пан Дачевский видел – в Чигирин ускакал татарчонок. Он найдет Хмельницкого, и тогда все пропало.
Пан Комаровский покрутил сначала один ус, потом другой и закричал на весь Суботов:
– Дай-ка мне плеть, жолнер! Я сам прикончу этого молодца! Слышишь, красавица? Если ты не выйдешь к нам, я засеку твоего приемыша. До смерти засеку! Он и теперь уже без памяти. Слышишь, я все сказал: на моей и на твоей совести будет его смерть.
Пан Комаровский щелкнул плетью по сапогу, чертыхнулся и решительно пошел к каменной бабе.
– Стой! Ироды! – раздвинув камышовую кровлю, выбралась на скат сарая Матрена.
– Лестницу! – крикнул пан Чаплинский.
Лестницу нашли, поставили. За Матреной полезли.
– Скорее! – Пан Дачевский был уже в седле. – Со стороны Чигирина движение.
– По коням! – крикнул пан Чаплинский. – По коням, и за мной!
11
– Спасибо, Степанида! – Богдан взял у дочери мокрое полотенце, выжал, положил Тимошу на лоб. – Не едут ли?
– Да уже приехали, – тихо ответила Степанида.
В горницу вошла мать Гали Черешни – Оксана, а с ней еще две женщины. Обступили постель.
– Ступай, Богдан! – Оксана ласково взяла Хмельницкого за плечи. – Слышишь, мы займемся твоим сыночком. Ступай!
Богдан согласно кивнул, встал, не забыл пригнуться в дверях. На улице его ждали несколько казаков.
– А поехали-ка, братцы, до пана Чаплинского, – сказал Богдан.
– Поехали! – согласились казаки.
В Чигирине им уже на околице сообщили: пан Чаплинский спрятался в костеле.
Когда подъехали к костелу, увидали жолнеров. Двери костела распахнулись, и, ведя за руку Матрену, вышел пан Чаплинский в окружении своей ватаги. У Матрены на голове блистала в лучах заходящего солнца фата, а пан Комаровский с паном Дачевским осыпали «молодых» деньгами и конфетами.
У Богдана потемнело в глазах. Спешился, тряхнул головой – темно. Сквозь туман увидал перед собой пана старосту, самого Александра Конецпольского.
– Пан Чаплинский венчался с пани римско-католическим обрядом, – говорил Хмельницкому пан староста, но слова его шли откуда-то издалека. – Я надеюсь, беспорядков не будет учинено.
– Беспорядков не будет, – словно за версту услышал Богдан свой голос, но тут свет наконец вернулся к нему, уши наполнились звуками. – Мне бы хотелось поздравить молодых.
Хмельниций пошел навстречу процессии, краем глаза следя за жолнерами, которые изготовили оружие.
За ушами у пана Чаплинского бежали дорожки пота, в ямочке над подбородком собралось озерцо. Хмельницкий усмехнулся: никогда не видел, чтоб человек так трусил.
– Пан Чаплинский, я вызываю тебя! – бросил перчатку под ноги «молодому». – Завтра, на заре, у твоего креста, да будет он тебе памятником.
Повернулся, подошел к лошади, сел в седло и уехал в Суботов.
12
Перед иконой Богородицы горела лампада. Стоя на коленях, беззвучно молилась Степанида. Тимош спал.
Богдан постоял в дверях и тихонько вышел. На другой половине дома, разостлав коврик, совершал намаз Иса. И ему не захотел помешать Богдан, взял тулуп, ушел на сеновал.
Заснул сразу, но скоро проснулся.
– Пятьдесят два года, – подумал вслух, и глубокая обида объяла душу его.
Жизнь была еще не прожита, но все главное позади. Был генеральным писарем, был счастлив в любви. Богатства не нажил, но и недостатка никогда не знал.
– С королем говорил, – снова вслух сказал Богдан. – Два раза. С графом де Брежи вино пил.
Вспомнил о графе, вспомнил свою поездку во Францию. Де Брежи был посланником в Польше, он пригласил казацких послов в Париж, чтоб договориться о найме казаков для войны с Испанией. В кружевах, в парике, белые ручки перстеньками унизаны, а за каждую копейку торговался.
«Но я тоже не сплоховал, – думал Богдан. – Пришлось-таки графу раскошелиться».
В Париж, а оттуда под Дюнкерк отправились две тысячи четыреста казаков.
«Помри я нынче, какая память по мне останется? – спросил себя Богдан и ответил честно: – Никакой! Гетманов и тех забывают».
И сам себе возразил: «Смотря каких гетманов! Сагайдачного не забудут, Сулиму, Павлюка, Остряницу…»
– Я за сына да за Матрену собираюсь пана подстаросту сокрушить, за себя самого встал, а Наливайко, Павлюк, Гуня, Остряница – те за народ дрались, за поруганную честь Украины.
Спать не хотелось. Богдан спустился с сеновала, дал овса коню, смотрел, как тот ест, кося глазом на хозяина.
– Чего смотришь? – спросил коня Богдан. – Чуешь, что паны поляки ловушку мне уготовили? Не тревожься, уж сегодня я не позабуду панцирь под кунтуш надеть. Бог не выдаст, свинья не загрызет.
13
Он приехал к кресту один, пан Чаплинский ждал его сам-треть.
– Готов, пан разбойник? – крикнул, подъезжая, Богдан и обнажил саблю.
И тут сзади грянул выстрел.
Хмельницкий дал шпоры, развернул коня и увидал пана Комаровского с дымящимся пистолетом в руках.
– И-и-и! – по-татарски взвизгнул Богдан и помчался на пана Комаровского, доставая из-за пояса пистолет.
Гнал всю свору. Пан Чаплинский, пан Дачевский и еще какой-то пан, не дожидаясь нападения, повернули лошадей и стали уходить.
Хмельницкий выстрелил и увидал, что лицо пана Комаровского залилось кровью.
– За Тимоша!
Дома, снимая доспехи, услышал: что-то упало. Поглядел – сплющенная пуля. Пуля пробила кунтуш, прошла через два ряда металлических пластин панциря и потеряла силу. Богдан долго глядел на дыру в доспехах.
– Позвонки бы перебил, сатана!
14
В тот же день из Чигирина прискакал от старосты гонец, пана Хмельницкого вызывали в суд.
Еще до суда узнал: пан Комаровский лишился левого уха, но живехонек.
– Ничего, – сказал Богдан. – Теперь он у меня меченый.
Суд был скорый и неправый.
– Покажи привилей на владение Суботовом, – попросил судья.
– Теперь у меня нет привилея, – ответил Хмельницкий, – но я показывал его в старостве.
– А где же теперь привилей?
– Его у меня выманили и сожгли.
– Я видел какую-то грамоту, – признал староста Конецпольский, – но не знаю, что это за грамота. Я не читал ее.
– Этой грамотой пану Хмельницкому жаловали корову на обзаведение, – сказал пан Чаплинский. – Корова давно сдохла, и я сжег бумагу.
– Значит, привилея у тебя нет, пан Хмельницкий? – спросил судья.
– Нет.
– Тогда твое дело проиграно. Пан староста Александр Конецпольский жалует хутор Суботов за верную службу подстаросте Чаплинскому. Два месяца тебе сроку для обжалования нашего суда в сенате, но так как доказательств на право владения хутором у тебя нет, можешь не тратиться на поездку в Варшаву.
– Нехай, потрачусь! – Богдан поклонился судье. – Правду сказать, я и не ожидал другого решения. Поеду поищу правду в сенате и у короля.
– У тебя что же, есть надежда склонить панов сенаторов на свою сторону? – спросил Конецпольский.
– Надежды нет, пан староста, но я хочу исчерпать, борясь за правду, все мирные возможности.
– Как это понимать, пан Хмельницкий?
– Я сказал то, что думал, а толкователям всегда видней.
15
Пан Чаплинский даже самому себе не признался бы, что пошел под венец в слепом порыве страха.
– Спьяну! – объяснял он свою нелепую выходку друзьям. – Но сам Бог послал мне королеву. Истая дикарка, но королева.
На людях кичился, шумел, а по ночам думал о Хелене.
Красотой Матрена пани Хелене не уступала. Властная, могучая, она в первую брачную ночь выбросила Чаплинского вместе с периной за дверь спальни и заперлась.
Он сразу понял, что ничем ее не сломит: ни голодом, ни угрозами, ни мольбами. Послал к ней священника, и она смирилась, осознала, что все случившееся от Бога. Она ведь не наложница какая-нибудь, а законная венчанная жена.
Пустив пана Чаплинского к себе в постель, Матрена долго разглядывала его, и он позволял разглядывать себя, завороженный силой этой женщины, изумительной красотой ее глаз.
– А ты – красавчик! – сказала она ему.
Душа жены была для него за семью замками, и пану Чаплинскому уже казалось, что он угодил в хитрые сети.
Позорное бегство от Хмельницкого еще более сплотило друзей-трусов. Все они страдали от низости своего вынужденного союза. Боялись слухов и готовы были мстить за правду.
В эти тяжкие дни пан Чаплинский все время думал о пани Хелене. Пани Хелена готовится к свадьбе, а ее ждет удар. Чем этот ангел провинился перед Богом?
– Я убью Матрену! – кинулся за советом пан Чаплинский к пану Комаровскому.
– Но тебя тогда засудят. Она – твоя жена.
– Что же делать?
– Езжай к епископу. Да побольше денег с собой прихвати. У его преосвященства золотое правило – не давать советов бесплатно.
– Верно! – загорелся пан Чаплинский. – Я пожертвую на храм Божий тысячу злотых, только бы Господь Бог услышал мою молитву.
Глава шестая
1
Пани Мыльская давно уже так не высыпалась. Спала она в просторном амбаре будущей мельницы. Прошла мимо спящей на полу, поредевшей своей челяди, приоткрыв дверь, выскользнула бесшумно на улицу.
Влажная, умытая ночным коротким дождем, трава кинулась ей под ноги, зеленая, как по весне. Над лощиною трепетал, обмирая от своей же песни, жаворонок. Пани Мыльская послушала его, улыбнулась. Спустилась к речке, умылась. Отерла лицо платком и, бодрая, решительная, поднялась на пригорок, где с вечера был заложен дом. В этом доме пани Мыльская собиралась жить до выплаты долга, а потом поселить здесь мельника.
По углам будущего дома стояли хлеб и вода, а посредине – сковорода.
Пани Мыльская подняла со сковороды кружок и совсем расцвела. Муравьев наползла целая пригоршня – чудесный знак: стоять дому долго и крепко, богатеть людьми и всяким добром.
Утренняя радость сулила работящий счастливый день, оттого и обиды сегодня казались горше.
Прикатила в лес прыткая артель и принялась валить деревья без разбора, кряду.
Пани Мыльская решила поехать к пани Выговской, спросить совета, а может быть, и денег, чтоб вернуть из посессии свои земли, своих людей. От пани Ирены можно всего, пожалуй, ждать.
Вещун сердце! Вещун!
Настегивая лошадь, прикатила на мельницу Кума, та самая, что претерпела от людей во время засухи.
– Пани-хозяйка! Спасай нас, бедных, от разора. Сбесилась пани Ирена! Господь не даст соврать – сбесилась! Вчера отобрала коров, а нынче со сворой слуг рыщет по хатам, забирает все, что приглянется. Долг какой-то с нас спрашивает. Спасай, матушка. Не то быть беде.
– По миру пустить хочет! – Горькая улыбка тронула губы пани Мыльской, да и замерла, закаменела. – Что мне сказать вам, люди? Терпите! Бог терпел.
– Некуда уж терпеть! – Кума упала в ноги, потянулась башмак поцеловать. – Пожалей нас, пани-голубушка! Пожалей! Пропадем.
Отшатнулась пани Мыльская:
– Эка улеглась! Не надрывай мне сердце. Сама все вижу. Вон лес мой под корень сводят, а я только гляжу да глазами моргаю.
Застонала Кума, рухнула в телегу, и заскрипели колеса, словно по сердцу проехали. Пани расплакалась вдруг, себе на удивление, гордая, твердая, гроза округи. Льются слезы сами собой, и все тут. На старости лет беда нагрянула, что ни день, то слезы и поругание. Выкупить бы Горобцы, но где столько денег взять, под какие такие залоги? Хоть бы сын приехал скорей.
Кутерьма в голове, беготня пустая – чем быстрей мысли летят, тем скорее ноги несут. А куда?
– Матушка-благодетельница, смилуйся!
Очнулась.
В дорогу, в пыль, как шли, так и бухнулись дедок Квач, казак молодой и дивчина.
– Да что это вы на коленках ползать навострились? – в сердцах вскричала пани Мыльская. – О чем просите?
– Арендатор ейный ключи от церкви забрал! – высоко, по-петушиному вытягивая тощую стариковскую шею, крикнул Квач.
– Какой арендатор? Какие ключи?
– Ейный! Пани нашей новой! Взял он себе ключи и без выкупа не пускает. Венчаться пришли, а в церковь ходу нет. Ему давай и давай. Было бы чего дать, дали бы. А что дашь? Пани все забрала. А он цену-то какую ломит! – шумел дедок, бестолково взмахивая руками.
– Погоди кричать. Да встаньте вы! – рассердилась пани Мыльская.
Поднялись.
– Объясни толком, что у вас там деется?
– А что деется? – Квач заплакал. – Чистый разбой деется. Привезла новая пани арендатора на наши головы.
– Пана Ханона, – подсказал молодой казак. – Пан Ханон церковь в аренду взял и замок на дверях повесил.
– А где отец Евгений, поп ваш любезный православный? – удивилась пани Мыльская.
– Так пан Ханон и отца Евгения в церковь за плату пускает.
– Бабка Лукерья на днях померла, без отпевания закопали, – выкрикнул сквозь закипевшие слезы дед Квач. – Одинокая она, Лукерья. Денег некому за нее было заплатить. Поп Евгений и бесплатно собрался, а Ханон церковь не отпер. Давай ему корову, и все. А где ж их напасешься, коров, на хозяев нынешних?
– Господи! – пани Мыльская уперла руки в бока. – Видно, и моему терпению конец пришел.
Развернулась – и на мельницу.
– Сапоги со шпорами! Пистолеты! – крикнула она слугам.
Сама-девятая примчалась к своему лесу. Стреляя в воздух, разогнала пильщиков. Потом – в село.
Пани Ирена восседала на крыльце на красном, обитом бархатом стульчике пана Мыльского.
– Ах ты негодница! Ах ты злодейка! – вскричала пани Мыльская, выхватывая из-за пояса пистолет. – А пошла-ка ты, негодница, прочь из моего дома!
Пани Ирена махнула платочком слугам. Те расступились, и на пани Мыльскую с крыльца собственного ее дома уставилась медным хоботком – пушечка! Один из слуг насыпал на полку пороху, у другого в руках объявился зажженный фитиль.
– Убирайтесь прочь из моих владений, пани Мыльская! И прищемите хвост! Вы же знаете, я имею право даже полностью разрушить ваше село, ибо оно в посессии!
Парадные двери с торжественной медлительностью растворились. Толпа завороженно смотрела в черный проем, словно ожидая явления сатаны. И вышел из дому голубой пан.
– Ханон! – прокатилось по толпе.
Голову пан держал прямо и твердо, а телом был гибок. Встал перед пани Иреной на одно колено. И только потом обратил синие глаза свои на толпу.
– Пани Мыльская? – спросил он пани Ирену, указав рукой на бывшую хозяйку дома и имения. – Пани Мыльская! Дабы окончательно не разрушить драгоценного вашего здоровья, не приезжайте в Горобцы. Вы сдали свое имение пани Ирене, пани Ирена сдала имение мне, так что для всех будет лучше, если вы вернетесь сюда законной хозяйкой через три года, как и указано в договорных бумагах.
– Господи, помоги мне! – Голос пани Мыльской сорвался от бессильного отчаянья. – О, пани Ирена! Я верну вам деньги. Не разоряйте моего гнезда. У меня ведь только одно село.
– Одно, а туда же! В посессию кинулись.
– Сын дороже села.
– Ну, это не моя печаль. Торопитесь, пани. Мне деньги нужны немедленно, и я их выколочу из вашего небитого быдла.
Крестьяне и казаки напряженно вслушивались в польскую речь.
– Простите меня! – Пани Мыльская сошла с лошади и поклонилась своим людям. – Простите за глупость. Потерпите, я соберу деньги и выкуплю вас из ярма.
– Не развращайте народ! – яростно топнула ногами пани Ирена. – Не забывайтесь! Вы – полька.
– Дура я! Старая дура!
– Отобрать у крестьян все полотно, всю шерсть и всю овчину! – торопливо кричала пани Ирена подручным.
– Дьявол! – заскрипела зубами пани Мыльская, садясь в седло, и вдруг рассмеялась: – А ведь ты все это из мести! Ты за пани Хеленку мне мстишь. За красоту ее. Да чтоб ни один мужик не позарился на тебя, смрадную дьяволицу!
Настегивая лошадь, ускакала.
– Пали! – взвизгнула пани Ирена.
Выхватила у оторопевшего слуги фитиль, ткнула в порох.
– Убили-и-и! – полетел над селом дикий вопль, люди кинулись бежать прочь от злодейского крыльца.