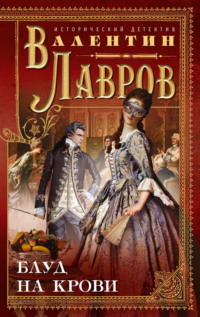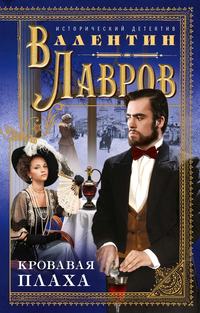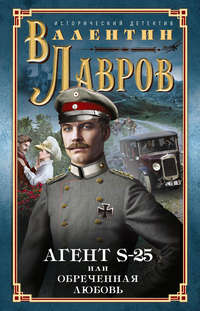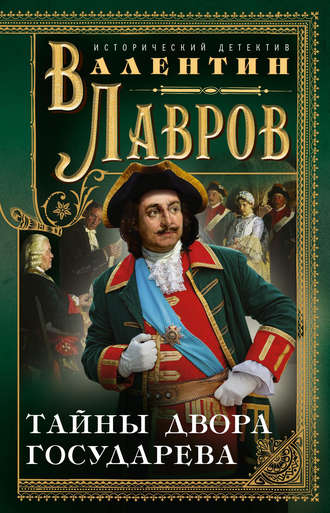
Полная версия
Тайны двора государева
Лицо Василисы заалело от царской похвалы. Мелентьев же заторопился:
– Негоже бабе стремянного пред царскими очами быть! Ступай, Василиса, к себе.
Государь ухмыльнулся:
– Суров ты, обаче! Аз реку: ныне же пришли Василису во дворец. Незачем ей тут молодость губить.
Мелентьев раздул ноздри, сжал кулаки, но смолчал, лишь покорно склонил голову. Про себя же решил: «Не отдам жену!»
Недуг
Прошло три дня. Ни Мелентьев, ни его Василиса во дворце не появились.
Государь о своем приказе помнил. Нахмурившись, произнес:
– Малюта, что стремянный Никита, жив ли? Или без передыху со своей молодой женой срамной малакией занимается? Скачи к нему, вызнай!
Через малое время, вытирая пыль с потного лица, Скуратов появился во дворце, зло ощерился:
– Стремянный сказался недужным и про свою Василису так же ответствовал.
Иоанн Васильевич как раз начал шахматную партию с Иваном Колычевым. Обдумывая хитрый ход, он кротко вздохнул:
– Зело грустно сие слушать, аз, грешный, молиться буду за здравие их, недужных! А покамест, Малюта, пошли лекаря моего Бомелиуса, пусть попользует…
В кибитке потрясся немец на Рождественку. Вернулся когда, загнусавил с поклоном:
– К женщине меня не допустили, а у самого хозяина, как у нас говорят в Пруссии, опасное воспаление хитрости. – Угодливо хихикнул.
Перекрестился Иоанн Васильевич, вздохнул:
– От сего недуга есть верный способ врачевания. – Многозначительно посмотрел на Скуратова: – Малюта, приготовь снадобье! Сейчас обыграю сердечного друга моего боярина Колычева и поедем навестить болезного. – Взял в руки фигуру, переставил на доске и с самым счастливым видом воскликнул: – Мат тебе, сокольничий!
…Кавалькада вскоре выехала из Спасских ворот Кремля. Против церкви Спаса на Бору Иоанн Васильевич остановился, снял тяжелую, обшитую драгоценными палами шапку, троекратно перекрестился, с притворным вздохом молвил:
– Помоги, Господи, облегчить страдания нашего раба Мелентьева!
Всадники двинулись на Рождественку.
Царь, наездник бывалый, красиво гляделся в седле.
Смертная чарка
– Ну, где тут хворый? – вопрошал государь, входя в хоромы стремянного. – В опочивальне? На вид такой здоровый мужчина, а вот надо же, свалился!
Стремянный, увидав, что над головой его сгущаются тучи, и впрямь занемог. В затылке что-то гудело, словно в большой набат били, а правая рука стала неметь.
Услыхав хлопанье дверей, шум под окнами, суетливую беготню челяди, Никита с трудом оторвался от подушки, хотел кликнуть слугу, чтобы одевал, как дверь опочивальни раскрылась. На пороге, в окружении своих головорезов, стоял ехидно улыбающийся государь.
Волчьим взглядом впился в Никиту, а голос прозвучал елейно, маслено:
– И что с тобой, свет-Никитушка? И впрямь тебя в крюк согнуло. А я, грешный, думал, что ты хитришь, от государя своего прячешься. Прости меня, неразумного. Малютушка, друже мой, зри: стремянный наш посинел, будто на льду посидел. – Помолчал, повздыхал. Со слезой в голосе добавил: – Лихорадка не матка: треплет, не жалеет. А ты, Никитушка, исправно ли молишься Сыну Божию?
– Молюсь, государь! – лязгнул зубами Никита.
– Молись со слезами, с покаянием, припадай к Богу с верою. Милостив Бог есть, иже праведников любит и грешных милует, к стопам Его прибегающих.
Царь вдруг повалился на колени перед иконостасом, стукнул лбом в пол так, что гул пошел, стал молиться.
Никита натянул на себя кафтан.
Появилась и Василиса. Она терпеливо дожидалась окончания молитв государя, привалившись плечом на дверь и держа в руках поднос с чаркой вина и хлебцом.
Наконец Иоанн Васильевич бодро поднялся на ноги, выпил вино, смачно, неприлично долгим поцелуем присосался ко рту Василисы.
– Ты, стремянный, верой и правдой служил мне. Теперь и я тебе облегчение пришел сделать. Говоришь, лихорадка у тебя? – Иоанн Васильевич ласково улыбнулся Никите.
– Нет, государь, мне уже стало лучше!
Иоанн Васильевич обрадовался:
– А сейчас и совсем от недугов избавишься. Принес я тебе верное снадобье. Лечит от всех болезней на свете: от лихорадки, от горячки, от рожи, от уязвления змеи, от воспаления хитрости. – Поманил Скуратова: – Эй, Малюта, налей, для друга не жалей!
Мелентьев сжал губы, невольно отшатнулся: он увидал коварное и полное жестокости лицо Скуратова. Понял: смерть пришла! Собрался с силами, твердо сказал:
– Суди тебя Господь, Иоанн Васильевич! Я противиться не смею. Но помни: коли обидишь Василису, с того света приду к тебе, взыщу.
Царь хрипло рассмеялся:
– Напрасно!
Скуратов протянул чарку. Мелентьев перекрестился, повернувшись к образу Матери Божьей, выдохнул и залпом выпил.
Государь отвернулся. Скуратов, напротив, с любопытством неотрывно глядел на стремянного.
Поначалу казалось, что Никита вполне в здравии. Он сам уже поверил в чистоту помыслов государя. Так прошло несколько минут. И вдруг Никита повалился, скрючился на полу, прохрипел:
– Воды, воды… во рту все жжет, глотка горит… – Белки дико вращались, зрачки резко расширились, лицо стало пунцовым.
Скуратов сладострастно улыбался. Государь печально вздыхал.
В толпе государевых людей возвышался Иван Колычев. Взор его был мрачно потуплен.
Стремянный забился в предсмертной агонии, изо рта пошла пена.
Государь перекрестился:
– И впрямь тяжко недужил наш Никитушка! Даже снадобье не помогло. – Взглянул на Василису, у которой по лицу катились градом слезы: мужа она любила. Но сейчас вдруг вспомнила свои предчувствия, те самые, давние, с ранней детской поры: «Быть мне царицей!» – и сразу на сердце как бы полегчало.
Государь, словно догадавшись о ее мыслях, мягко молвил:
– Никитушку мы похороним по-христиански. А тебе, Василиса, негоже с покойником в доме оставаться. Собирай платья, во дворец поедем, поминки устроим.
Василиса покорилась судьбе.
Свеча
Минуло два года. Василиса прочно привязала к себе Иоанна Васильевича. Она ухитрилась изгнать из дворца всех женщин, которые могли стать ей соперницами. Хотя патриарх отказался благословить государя на очередной брак (седьмой, что ли?), все тот же доверенный священник отец Никита их обвенчал. Предчувствия Василисы сбылись, царицей она стала!
Она сделалась еще краше, в ее движениях, в походке появилась особого рода грациозность, улыбка еще ярче блистала на ее устах. Историки отмечают: «Иоанн будто переродился. Почти прекратились казни, Иоанн не выезжал в Александровскую слободу, его припадки случались крайне редко, оргий во дворце больше не было… Все вздохнули свободно».
Государь, которому перевалило за пятьдесят, давно, казалось бы, истощивший свою дряблую плоть беспробудным пьянством и неумеренным развратом, вдруг поразился любовью – самой страстной и ненасытной, которая бывает лишь в ранней молодости.
С каждым днем Василиса делалась все более желанной, неотразимо притягивая всех той прелестью, грацией, загадочностью, что называется женственностью.
Оставаясь наедине, Иоанн Васильевич неистово уверял царицу в своей любви, униженно целовал ей ноги, руки, самые сокровенные места, заходился слезами при мысли, что придет день, когда смерть разлучит их.
– Сердце мое уязвлено любовью к тебе! – страстно шептал государь.
Василиса не имела любви к Иоанну Васильевичу, но, как это часто бывает у женщин, смирилась, притерпелась и даже без особого отвращения принимала эти бурные, самоуничижающие признания и ласки.
* * *Восстав однажды от послеобеденного сна, государь заглянул в спальню к супруге. С присущей ему зоркостью вдруг заметил: все четыре толстых свечи в шандале потушены не колпачками, как обычно это делалось, а огонь придавлен пальцами.
Это страшно удивило и поразило его. Пытаясь игривой улыбкой скрыть свою тревогу, вопросил:
– Кто это в огонь персты сует?
Василиса, как показалось царю, с удивлением взглянула на шандал, но тут же, лениво зевнув, равнодушно отвечала:
– Ах, это? Любовников зову, вот они и давят. – Звонко рассмеялась. – Дурачок ты, Ванюшка. Разве тебя, агнец ты мой белый, может кто заменить – мудрого, в любви проворного?
Ступая красивыми босыми ногами по пышному ковру, она подошла к подсвечнику, горевшему возле скрыни, плюнула на пальчик и отважно прижала горящий фитиль. Свеча, пустив длинную струйку дыма, загасла. Игриво взглянула на государя:
– Лисенок мой ненаглядный! Я завсегда так делала в доме батюшки моего. Желаешь, тебя обучу?
Государь, облегченно вздохнув, буркнул:
– Я что, ума лишился? Царь станет тебе пальцами свечи тушить! И ты, Василиса, так больше не делай. Не царицыно сие дело, слуги на то есть.
Свеча (окончание)
На другой день у государя была важная встреча со шведским послом. Утром, пораньше, он навестил супругу, провел у нее почти час. Затем, помолившись, отправился в Престольную палату. Здесь его уже поджидал Иван Колычев.
– Вчера, сокольничий, ты ловко пешкой в ферзи прошел, да все едино – я обыграл тебя! – Приятные воспоминания озарили лицо государя. – Фигуры расставил? Ну, держись, сокольничий, нынче моя очередь белыми играть.
Они уселись в уголке громадного, со многими сводами зала, со стенами, расписанными картинами из Святого Писания. Слуга зажег в литом серебряном подсвечнике шесть сальных свечей.
Играли почти час. Государь одну партию выиграл, другую свел вничью. Он молвил:
– Посол прибыл, сегодня дело серьезное. Эта треклятая Ливонская война заставляет уступки шведам делать, отдать побережье Балтийского моря. Иначе мира нам не видать. Божьим попущением Эстляндия предалась Швеции и Дании, Ливония – Польше. Шутка ли, поболее трех десятков лет ратоборствуем, сколько голов положи ли, пора замиряться.
Иоанн Васильевич поднялся из кресла. И вдруг он увидал, как сокольничий, жирно плюнув на палец, пригасил возле шахматного столика ненужные теперь свечи.
Страшная догадка обожгла сознание государя. Когда нынче он прощался с царицей, та раза три переспросила: «Лисенок, переговоры скоро кончатся? Ты быстро ко мне придешь?» Теперь ясно, зачем сей вопрос.
Криво усмехнувшись, спросил:
– Не обожжешься, сокольничий?
– Привычный, в доме отца завсегда так тушили. Я и лучину могу, а свеча что? Ткнул – и погасла!
Бояре, терпеливо ожидавшие окончания шахматной игры, подошли к государю, мудрые бесполезные советы подавать начали. Не слушая их, Иоанн Васильевич направился к престолу, преодолел три высокие ступени, плюхнулся на трон.
Со свитой появился шведский посол – лысый, с напыщенным лошадиным лицом, в зеленом немыслимом камзоле с золотыми пуговицами.
Толмач начал что-то трещать в уши – государь его не слышал. В сознании было лишь одно: неужто сокольничий был в спальне Василисы? Очень похоже, что именно он затушил свечи в ее шандале.
Иоанн Васильевич окинул взором лавку, на которой сидели бояре. Среди них сокольничего не было.
И он вдруг решился: быстро поднялся с трона, ноги сами понесли его на половину царицы. Скуратов и несколько стражников бросились вслед.
Толмач замолк. Шведский посол возмущенно приоткрыл корытообразный рот:
– Что такое? Что за конфуз?
Государь резко распахнул дверь в спальню Василисы. Та стояла возле ложа, взбивая подушки. Увидав мужа, заволновалась, поспешила навстречу:
– Ты чего? А переговоры? – Лицо залилось мертвенной бледностью, застыла деланая улыбка.
Грозный повернулся к дверям, рыкнул:
– Терем, Малюта, обыщи!
Скуратов тут же влетел со своими подручными. Словно тараканы, они разбежались по опочивальне, повсюду заглядывая, обнюхивая каждую щель.
Василиса, закрыв лицо руками, упала на постель.
– Тута! – радостно выкрикнул Скуратов, отдергивая штофный полог кровати.
Там стоял, скрестив руки на груди, Иван Колычев. Государь хотел что-то сказать, но лишь несчастной гримасой сморщилось старческое лицо, горестно затряслись тонкие губы.
Молодой красавец смело шагнул к нему:
– Государь, не устал ли от крови? Тебя все боятся, но и все проклинают, как аспида гнусного. Уже на сем свете ты обрел себе муки адовы…
Иоанн Васильевич воздел посох, с силой ударил им в лицо сокольничего:
– Кал собакин! Грязь худая!
Сокольничий, заливая ковер кровью, рухнул замертво.
Эпилог
«Пусть Василиса мучается подоле!» – решил государь. Он стукнул об пол посохом:
– Связать изменницу, завернуть в волчьи шкуры и положить в гроб. – Повернулся к Малюте: – Во гробе с боков незаметные два отверстия проделай, для тока воздуха! Пусть и в могиле дышит, мучается, о своем блудном грехе печалуется!
На окраине Александровской слободы вырыли широкую яму, куда после отпевания опустили оба гроба: первым – Колычева, сверху – Василису. Сделано это было тайно, под покровом ночи. Землю заровняли, а к утру и метель началась – все подчистила.
До утра и пир шумел в царевом дворце. Впрочем, пир скорее напоминал тризну, ибо Иоанн Васильевич сидел мрачнее тучи, ничего не ел, ни с кем из соратников не разговаривал, лишь пил и пил хмельное.
Когда за окном забрезжило, призвал Малюту Скуратова:
– Единый Господь без греха! Отрой гроб с Василисой, приведи ко мне царицу. Коли не задохнулась, в монастырь ее отправлю. Пусть свои грехи замаливает, о блудном грехе печалуется.
…Малюта вернулся сконфуженным. Лицо его было залито мертвенной бледностью, глаза дико вытаращены. Заплетающимся языком он сказал такое, что самые пьяные сразу же протрезвели, а Иоанн Васильевич Грозный со страху стал мелко креститься и на время даже лишился дара речи.
Что смутило этих бесчувственных головорезов? Об этом наш следующий рассказ.
Бегство
В ту страшную ночь, когда по велению Иоанна Васильевича Грозного, тайком от всех, на окраине Александровской слободы были закопаны два таинственных гроба, в мире бушевала непогода. Черное небо, с которого сыпался сухой колючий снег, нависло над самой землей. Стремительно мела поземка. В избах давно спали простолюдины. Лишь в государевом дворце светились окна. Там правили тризну по рабе Божьей Василисе. Но вот возле секретной могилы мелькнул, словно призрак, чей-то силуэт. Неясная фигура пошарила возле ветлы, нащупала прут – заметину, – и началась работа. Полетели комки смерзшейся земли. Наконец лопата глухо стукнула о крышку гроба…
Свет во тьме
Священник отец Никита был сыном сотника. Уже в шестнадцать лет, когда отец погиб в Ливонской войне, Никита поступил на царскую службу. Стал он опричником. Весело носился подросток на лихом жеребце, а к луке седла были привязаны символы опричнины – собачья голова и метла. Символ сей означал, что подобно псу следует вынюхивать всякую измену и беспощадно выметать ее.
Много греха принял на душу Никита. Совсем молодым участвовал в избиении новгородцев. Случилось это в январе 1570 года. Тогда по приказу Иоанна Васильевича ни в каких преступлениях не повинных горожан сотнями приводили на центральную площадь Новгорода. Здесь их пытали, жгли на малом огне, а затем, привязав окровавленные жертвы к саням, спускали с крутого откоса к быстрине, где никогда не замерзает Волхов.
Оставшись наедине, Никита падал ниц перед древними образами, намоленными еще пращурами. Страстно взывал:
– Господи, прости мои прегрешения! Не хочу крови людской, душу воротит от царевых дикостей. Просвети меня, неразумного! Что делать, коли еще в Писании сказано: «Нет власти аще не от Бога!» А ежели государь не ведает, что творит?
Но как сомнения ни терзали молодого опричника, он вновь направлялся в царский дворец и верно служил полусумасшедшему деспоту.
И все же в душе тлела искорка Божья, манившая из тьмы к свету и правде.
Кровавые потехи
Однажды во дворце начался переполох. Государь приказал Скуратову:
– Готовь сотню отборных ратников, да не медли. Сон мне нынче был: в Немецкой слободе змеи чужеземные замыслили на меня злое дело.
Удивился Скуратов:
– Неужто?
– Не рассуждай, собачий сын! И чтоб все в черном были. Сокрушу их гордыню, блудодеев еретических.
Скуратов угодливо осклабился:
– И впрямь, батюшка, много кичатся, аспиды зловредные!
– Передо мной не шибко покичишься!
– Это так, мы им нынче укорот сделаем. Можно исполнять?
– Беги! – Иоанн Васильевич сграбастал в ладонь бороденку, погладил подбородок: признак предвкушения удовольствия.
* * *Вскоре зловещая кавалькада неслась на окраину Москвы. Одним из всадников был громадный детина, под тяжким весом которого порой проседал рослый жеребец. Это был Никита.
И вот началось нечто бессмысленное и по жестокости невообразимое. Хотя на улице был дикий холод, моросил беспрестанно мелкий дождь, всех жителей – мужчин, детей, женщин, стариков – раздели догола и выгнали на улицу.
– Девиц отделяйте! – крикнул молодой Басманов.
Замелькали плети – влево и вправо. Били по плечам, по лицам – до крови. Девиц стали вновь затаскивать в избы. Девицы брыкались, отчаянно сопротивлялись, их подгоняли пинками и кулаками. Из домов неслись страшные вопли насилуемых.
Басманов сладострастно потер ладони:
– Вот это по мне – весе-елье! А теперь, братцы, дергай девкам ногти с рук – вон клещи на телеге лежат, нарочно взяли. Пусть, мокрощелые, визжат!
И рвали ногти, резали языки, до смерти забивали кнутом. Кровь, стоны – и дикий хохот истязателей.
Никита медленно ехал по улице. Уста его шептали: «Господи, какие гнусности!»
Вдруг раздались бодрые голоса:
– Никита, держи к нам! Сейчас потешимся…
Он увидал приятелей-опричников. Они привязывали к двум коням невысокого худощавого юношу. Юноша от холода посинел, глаза его были полны слез.
– Панове, панове…
Ратники веселились:
– Сей миг будет тебе «панове»! Хлестанем коней – в клочья тебя порвут. Всю внутренность твою вывернет, собакам на харчи. Молоденький, мясо-то нежное. Га-га! Да стой на месте, руками не маши, бельбужд арабский!
– Кто такой? – напуская на себя важный вид, спросил Никита. Ему вдруг стало жаль этого юношу. Захотелось доброе дело сделать, и он почему-то решил обязательно освободить его.
– А хрен его знает, немец какой-то, – весело отвечали опричники. – А что?
Никита принялся вдохновенно врать:
– Да государь ищет тут одного! – И к юноше: – Тебя как зовут?
Юноша поднял глаза, полные слез и мольбы, на богато разукрашенного всадника, простонал:
– Я Викентий Буракевич из Кракова, купец! Вчера только прибыл в Московию. Святая Дева Мария свидетель: никому плохого я не делал.
Никита обрадовался:
– Вот его-то и разыскивает государь-батюшка! Отвязать, да быстро. Это чей возок? – Ткнул кулаком мужика, сидевшего на облучке: – Пока отвезешь пленного на Земляной вал, ко мне в дом…
* * *Вечером того же дня Никита нашел в своем доме польского юношу, рассеянно перебиравшего каким-то чудом сохранившиеся у него четки.
Поляк горячо благодарил своего спасителя:
– Пан, я ваш вечный должник! В Московию ни я, ни мой отец впредь ни ногой. Это варварская страна, где развлекают царя, убивая несчастных и беззащитных людей. Но если окажетесь в Кракове, мой дом, моя челядь – все в вашем распоряжении. Я буду молить о ваших успехах Святую Деву Марию.
…Никита, словно во искупление своих грехов, сделал все необходимое, чтобы поляк добрался целым до своей родины, он снабдил его деньгами и одеждой и с попутным кортежем отправил к западным землям.
Неукротимость
Страстно каялся в своих грехах и государь. Наладив гусиное перо, Иоанн Васильевич, грустно вздыхая, писал в своем завещании: «Тело мое изнемогло, болезнует дух, струпы душевные и телесные умножились, и нет лекаря, который бы меня исцелил; ждал я, кто бы со мной поскорбел, и нет никого, утешающих я не сыскал, воздавали мне злом за добро, ненавистью за любовь. Увы мне! Молитесь о моем окаянстве».
Перо брызнуло чернилами. Государь злобно отшвырнул его. Ненадолго задумался, сведя брови. Потом вскочил, выпил вина, заходил по опочивальне.
За окнами еще царствовала темень, а он уже пластался перед домашним богатым иконостасом, метал поклоны, нещадно набивая не сходящую со лба шишку:
– Увы мне, шакалу ненасытному! Не человек, а истинно зверь изошел из чрева матери моей. Глаголю Тебе с трепетом и надеждой: усмири меня, утишь сердце мое лютое…
Орошались слезами умиления от собственной кротости выцветшие голубые очи, сладкое умиротворение нисходило на душу. Вздымал он руки вверх, с еще большей страстью вопиял:
– Истинно реку: сатана подтолкнул меня извести патриарха Филиппа! Сам такого никогда бы не выдумал! Или новгородцев, сказать, малость побил… Так они, собаки, заговор на меня умышляли! Прости, Господи, меня и исправь, неразумного. – Вновь шмякнулся лбом об пол, да не рассчитал вгорячах, от боли поморщился. И тяжелые мысли вновь, как черви, зашевелились в больном мозгу: «А ведь и Филипп, шиш антихриста, сам подтолкнул меня к греху, ибо посмел воли моей ослушаться. Вот и эти, в Немецкой слободе, живут в моем царстве, а сами, латиняне гнусные, полны аспидовым ядом. Господи, разве убить бешеную собаку – грех? Ан нет. Вот и тут нельзя отступникам от веры православной потачки делать. Господи, дай мне новых сил на одоление еретиков и изменщиков!»
С потолка на лысину свалился жирный таракан. Лицо государя исказилось, он изловчился, поймал, растер меж пальцев:
– У, злая сила, молитву перебил!
На колокольне Успенского собора ударили к заутрене. Перекрестил лоб:
– Слава тебе, Господи, теперь уже пора в Успенский собор, там складно помолюсь. На людях и молитва доходчивей!
…И часа три-четыре томил себя Иоанн Васильевич на коленях, нещадно долбил каменный пол лбом:
– Пошли, сын Давидов, смерть всем моим врагам!
В притворе храма встретив однажды верного опричника Никиту, вдруг поманил пальцем:
– Ты, Никита, зело начитан, премудрости многие превзошел! Решил я: будешь священником и моим духовником. Разумеешь? А то наши гордоусы церковные многие противности чинят.
Молча поклонился Никита. Подумал: «Может, и впрямь так лучше? Не буду в царевых забавах кровавых участвовать, читать буду жития святых, Псалтырь да Евангелие. Эх, сладость душевная!»
Запамятовал, видать, Никита, что счастье с несчастьем в одних санях ездят, да жизнь скоро напомнила ему об этом.
…Иоанн Васильевич уже прошел в храм.
Сразу же началась служба.
Государев духовник
Если читатель думает, что судьба бывшего опричника, а теперь священника отца Никиты круто переменилась, то ошибается. Как и прежде, Никите приходилось по воле Иоанна Васильевича участвовать в его попойках и развлечениях.
Но теперь все же появилось больше покоя, чаще можно было находить уединение. Отец Никита всегда имел тягу к келейной жизни, к чтению и размышлениям. Государь позволил ему пользоваться своей обширной библиотекой. Часами сидел Никита склоненным над древними рукописями и хронографами, и все сильнее происходили перемены, невидимые глазом, – духовные. Обладая от природы характером добрым, теперь Никита стал еще больше помогать бедным, заступался за невинно осужденных.
Государь на своего духовника не сердился, лишь посмеивался.
– Юродствуешь, отче! – Но тут же вполне серьезно добавлял: – И то – дело священника творить добро и врачевать раны душевные. – Мечтательно заводил очи: – Вот брошу все, пропадайте без меня, заточусь в монастырь…
Никита исповедовал государя, отпускал грехи и даже венчал. Но в душе все более осуждал жестокосердие царя, а паче того – подручных, разжигавших цареву злобу и кровожадность. И вот пришел час, когда Никита решил сотворить дело опасное и доброе…
Отец Никита, как и положено, сопровождал гробы до могилы. Он уже успел прознать, что в одном из них лежит живая еще царица. Гробы предали земле.
Вместе с государем и его присными Никита во дворце правил тризну. Улучив момент, незаметно удалился из дворца. Вооружившись лопатой, он умудрился в кромешной тьме отыскать место возле ограды, где была зарыта царица Василиса. Помог ему прут, который Ни кита загодя воткнул между комьев земли в изголовье гроба.
С трудом отворачивая комья мерзлой земли, Никита принялся раскапывать могилу. Мороз и метель все более усиливались. Вскоре пот заливал священника, дыхание участилось, гортань жгло так, словно туда металла плавленого залили. Пересохшие уста шептали:
– Господи, помоги! Неужто обмишулился? Неужто не здесь? Да нет, вот и ветла торчит, еще прежде ее приметил…
Вдруг лопата глухо стукнула по крышке гроба.
Еще спорее Никита стал отшвыривать землю. Перекрестился: