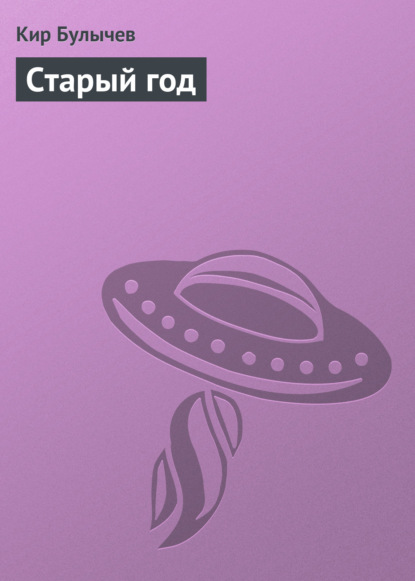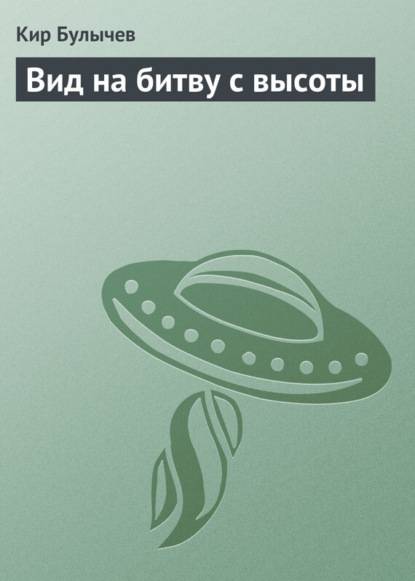Полная версия
Операция «Гадюка»
– Что-то поддувает нынче, – сказал Клюкин.
Некогда он был толстяком и занимал ответственную должность. И сам, не без юмора, цитировал Салтыкова-Щедрина из повести о помпадурах и помпадуршах, где престарелый помпадур пишет памятку для губернаторов. Для того он носил с собой в бумажнике ветхую на сгибах бумажку: «Необходимо, чтобы администратор имел наружность благородную. Он должен быть не тучен, не скареден, роста быть не огромного и не излишне малого, должен сохранять пропорциональность в частях тела и лицо иметь чистое, не обезображенное ни бородавками, ни тем более злокачественными сыпями. Сверх сего должен иметь мундир».
Произнося последнюю фразу, Клюкин принимался смеяться. Он давно всем надоел, как может надоесть человек, помнящий единственный анекдот. Мундир городничего, который он отыскал в Театре юного зрителя, был сильно поношен, но Клюкин утверждал, что состоял в свите Его Величества. Лаврентий Павлович с его дотошностью раскопал на Клюкина материалы – он был всего-навсего жандармским ротмистром, проворовался и должен был застрелиться. По крайней мере родственники так полагали. На самом деле сбежал в Ташкент, потом объявился в Пскове. А дальше Берия потерял его след. Правды же от Клюкина не добьешься. Подруга Лариса, которую Лаврентий Павлович давно уже сделал своей осведомительницей, ничем помочь не могла или не хотела. Она была рыжей красавицей, у нее когда-то был знаменитый муж. Но сама она чуть не умерла от холеры где-то в Гражданскую войну, а мужа сотрудники Берии выбросили из гостиницы, с пятого этажа, лет через двадцать. Может быть, не из гостиницы, а из госпиталя…
Лаврентий Павлович любил точность. Особенно когда это касалось личных дел на его сотрудников или других подозреваемых. А в этом чертовом потустороннем мире никогда толком не найдешь концов. Некоторые бумаги погибли, другие и вовсе не существуют или не существовали.
Лариса посмотрела на Лаврентия в упор. Это был такой фокус – он удавался ей в молодости. Мужчины терялись от такого взгляда, не понимая, приглашают ли их в постель или к серьезному разговору о судьбах революции.
Лаврентий сказал:
– Мы потом поговорим, Лара. Нам есть о чем поговорить.
– Не пугай, – сказал Клюкин. – Лариса находится в моей юриспруденции.
Лаврентий смотрел, как они поднимаются по лестнице. Он ждал, что Лариса обернется. Если обернется, значит, у него остается над ней власть.
Лариса обернулась у самой двери.
– Не пялься, – сказала она. – И сними наконец шляпу. Здесь не бывает дождя.
За спиной Лаврентия Павловича засмеялся высоким голосом Грацкий.
Грацкий – враль, умеющий устраиваться даже в аду. Высокий, гладкий и обтекаемый. Здесь нет телефона, потому он проводит все время в визитах. Так как хорошие пролетки все давно расхватали, он ездит на мотоцикле с коляской, запряженном рикшами. Уверяет, что это особенная машина, сделанная по его заказу в США, куда он плавал в прошлом году на подводной лодке. Бред этих слов очевиден, так как здесь нет подводных лодок и, весьма вероятно, нет и Соединенных Штатов. Но все слушают Грацкого и соглашаются с ним. Хотя никто не верит. На нем мундир с эполетами, потому Грацкий зовет себя министром обороны. Ни больше ни меньше.
Грацкий относительно молод. Он попал на этот свет лет двадцать назад. Он делает вид, что интересуется женщинами, и делал предложение Ларисе.
– Мальчик, – сказала ему красавица, – мне уже ровно сто лет. Обещают к дате наградить. Кажется, твоя болезнь называется геронтофилией.
– Твой возраст на тебе не нарисован, – сказал Грацкий. – На самом деле я – один из последних соратников Наполеона. Тебе что-нибудь говорит это имя?
– Ничего. – Лариса разводит тонкими руками, щелкает пальцами перед носом Грацкого и добавляет: – Клюкин сказочно богат и заботлив. Ты – хвастунишка. Женщине нужен защитник. Может быть, я перейду к Лаврентию. Он – удав.
Берия тоже задумался, откуда у Клюкина такие богатства? Здесь нетрудно стать относительно богатым, если специально этим заняться. Ведь в магазинах, даже в ювелирных, остались кое-какие вещи, почему-то не умчавшиеся в будущее со временем, здесь можно отыскать картины и скульптуры, труднее – перины или хорошее белье. Пустой дворец – пожалуйста! Но богатство – это субстанция куда более сложная, чем сумма бриллиантов или обручальных колец, одежд или апартаментов. Богатство – это особый аромат, талант, очевидный окружающим, хотя допустимо существование не очень богатого богача. Богачи всегда остаются таковыми, даже если их постигает разорение.
Труднее всего оставаться богачом в мире теней.
Клюкин был богачом, имел выезд, хорошо одевался, пользовался услугами горничной и садовника, хотя сада у него не было. В любовницах он держал Ларису Рейснер – самую красивую женщину Ленинграда, хотя и любовница ему не была нужна.
Ленинград… его оставили Ленинградом, хотя от вновь прибывших узнали, что городу вернули старое, дореволюционное название.
Лаврентий Павлович поднялся по лестнице наверх, в вестибюль ресторана. Он не стал снимать шляпу. Лариса правильно подметила – он перестал ее снимать, когда понял, что не нуждается больше во сне или даже отдыхе. Шляпа закрывала лысину, кидала тень на выцветшее лицо – из-под нее только поблескивали линзочки очков. Он предпочел бы пенсне, как в молодости, но не удалось найти – приходится носить очки. Казалось бы, зрению надо вернуться в норму – здесь не бывает болезней. Но зрение не изменилось. Ну и хорошо, он привык к очкам.
Берия вошел последним.
Остальные пятеро консулов уже сидели в мягких креслах, поставленных широким полукругом. Полукруг был обращен к морю, к стеклянной стене ресторанного зала. Некоторые стекла были выбиты, но это не играло роли, потому что там обычно не бывает ветра или холодов.
Нынешний ветерок был заметен только из-за необычности.
Никто не удивился опозданию Берии, так как Лаврентий Павлович отвечал за всеобщую безопасность. И хотя ничего сенаторам не грозило, никто не намерен был отказываться от бериевской службы. Ее существование придавало сенату вес.
Берия обвел взглядом зал.
Справа налево.
Первый консул – Клюкин. Рядом с ним в кресле Лариса, это непорядок, с которым приходилось мириться. Ларису называли секретарем Клюкина, этот паллиатив устраивал и Клюкина, и Ларису, и самих консулов.
Дальше – гладкий, вертлявый, хотя и сохраняющий при том некую вальяжность министр обороны Грацкий. Он глядится в зеркальце, расчесывает поредевшие усы. Одно из преимуществ жизни на этом свете заключается в том, что на человеке не растет ничего лишнего. Ни волос, ни ногтей, не говоря уж об усах. А те, что были у тебя в момент перехода, сохраняются и понемножку истончаются, редеют, приходят в ничтожество. Лаврентию Павловичу было не страшно, он давно облысел. А вот Грацкий лелеял и берег свои усы. Но ведь не сбережешь. Все, что не растет, погибает.
В центре сидел моложавый пожилой юноша, темноволосый, подвижный академик Чаянов. Экономист по прошлой жизни. Берия проверял. Его вроде бы репрессировали в тридцатом, хотя тогда мало кого не репрессировали. Видно, состоял в оппозиции. Лаврентий Павлович, разумеется, не имел отношения к его бедам, но все равно между ними царила неприязнь. В Чаянове сохранилось слишком много жизни. Берия не удивился бы, застав его за обедом или в кровати с женщиной. В этом была неправильность, Берия подозревал Чаянова, что тот знает какой-то медицинский секрет, а может, даже магическую тайну – ведь никто еще не доказал, что волшебства не существует.
Чаянов тоже не любил Берию. Хоть и не знал его раньше, на обычном свете. Не успел узнать. Но не скрывал, что погиб по вине чекистов, и полагает, что хороший чекист – мертвый чекист.
Дальше сидит господин Победоносцев – старый муравей, Кощей Бессмертный. С него сказки писать. Но, несмотря на возраст и злобу, правящую каждым его движением, он умен и решителен. И это его толкает в союзники к Берии. Они чем-то близки. Оба никому не верят и полагают, что человеческая природа гнусна и низка.
А вот и последний из консулов – его святейшество, или как там именуют митрополитов, Никифор. Сладкий старичок с бородой Деда Мороза. Но это ложь. Если дать ему волю, он ухватит власть когтистыми лапками и сожжет на кострах всех подозрительных. Именно он – вождь движения за чистоту мертвого тела, именно он требует закрыть все контакты с внешним миром и, если удастся, вообще уничтожить Верхний мир, из которого сюда проникает лишь опасное легкомыслие и ереси.
Консулы привыкли, что Берия отвечает за безопасность заседаний. Кто-то должен брать на себя неприятные обязанности, а для Лаврентия в них нет ничего неприятного. За малым исключением никто из консулов не был знаком с Берией в той жизни, когда он занимал в России важное и зловещее место, за что и был приговорен к смерти. Грацкий уверял, что Берия арестовал и пытал его отца, но Берия, когда Лариса спросила его об этом, категорически возражал – он признавал, что был вторым лицом в государстве после Сталина, куратором атомного проекта, но никогда никого лично не арестовывал и не пытал. А проверить это было нельзя – ни документов, ни свидетелей не сохранилось.
Лаврентий Павлович смутно помнил о том, как же в самом деле складывалась его жизнь. Здесь это было неважно.
Казалось бы, с исчезновением борьбы, женщин, страстей он должен был смириться с продолжением туманного существования, но он и за порогом жизни сохранил в себе достаточно сил, чтобы стремиться к власти. «Такая у вас генетика, – говорил ему старый доктор. – Как бы вы ее ни гнали и ни уничтожали». Лаврентий Павлович ежегодно проходил у доктора полный медицинский осмотр. Он серьезно относился к своему здоровью даже после того, как перестал жить.
– Дует, – сказал Никифор. – Я убежден, что дует.
Все смотрели на море, на полосы ряби, и понимали, что митрополит прав, но эта чертова рябь настолько нарушала сложившийся порядок вещей, что ее проще было игнорировать. Правда, Лаврентий Павлович твердо выучил: мелочей не бывает. Нельзя игнорировать угрозу только потому, что она незначительна или настолько неприятна, что ее и замечать не хочется.
Лица отворачивались от окон, глядевших на море, наталкивались на презрительный взгляд из-под горизонтальных, засаленных полей шляпы и опускали глаза к полу.
– Начнем? – спросил консул Чаянов. Он был ненадежен, и за ним приходилось присматривать. Даже сейчас он мог предать, такие всегда предают – они слишком много размышляют и ерничают.
Но ничего не поделаешь. Сначала, еще в обычной жизни, люди проходят естественный или искусственный – называй как знаешь – отбор. Вот и получается пирамида. Те, кто на самом верху, имеют право – или несчастье – попасть в историю. Их имена вырублены на склоне пирамиды буквами, соответствующими их репутации. Но внутри пирамиды, невидимые для глаз людских, таятся иные люди, может, не менее вождей способные править миром.
Если снести вершину пирамиды, они появятся наружу, как дождевые черви, увиденные тобой, когда ты вывернул лопатой клок влажной земли. Таков Клюкин – кто знал бы о нем в том, живом мире? Или Чаянов. Берия никогда не слышал о таком человеке. Академик? Доктор? Ученый? Мы много видали академиков и знаем, что они мочат штаны так же, как конюхи. А здесь вылез.
Но должен быть вождь.
А вождя сейчас нет. Так случилось, что вождь скончался, растаял, износился. Для человека рационального, здравомыслящего сама мысль о том, что на том свете можно износиться и стать ничем, немыслима, потому что необъяснима по-философски. А ведь бывает. Плоть, даже избежавшая давления времени, выбитая из его потока, не прекращает терять некие атомы…
Еще полгода назад существовал и правил всеми Верховный вождь.
Звали его Иваном, Иоанном, родился он в самом конце XVIII века, был приговорен за разбой к повешению. Казнь должна была случиться наутро после Нового года. А в ночь на Новый год он исчез из камеры. Так боялся смерти, так стремился к жизни, что в новогодний миг перенесся сюда, где нет времени и нет жизни.
Был он разбойником, просто разбойником, вроде и не мог стать иным. А по прошествии двухсот лет он превратился в Верховного правителя мертвого мира, самого жестокого, холодного и разумного мертвеца в мире живых мертвецов.
Умерши раз, нельзя умереть снова, ибо в этом мире нет времени. Но человека можно сжечь на костре, изрубить на куски – насильственно прервать в нем жизнь, хоть, конечно же, это куда труднее сделать, чем в мире живых.
…Иоанн, правивший миром около ста лет, просто перестал существовать – и в этом была высшая мудрость ухода.
Он оставил после себя шесть консулов – пять прежних, шестой Берия, выбранный на пустое место. Теперь надо найти самого достойного из шести – и ошибки быть не должно.
Сегодня собрались выбирать Верховного вождя.
И решить некие проблемы, даже о существовании которых остальным жителям державы, сколько бы сотен их ни накопилось, и подозревать нельзя.
Лаврентий Павлович прошел на свое место.
Сколько раз он садился вот так, кресло надо бы перетянуть. Все кресла надо будет перетянуть, и если его изберут, он обещает перетянуть кресла. Пора сделать новые шаги, обновить стиль руководства.
Другие не имеют программы. А число и характер угроз все время возрастают. Такова жизнь, даже в отсутствие жизни.
– Мы собрались, – продолжал Чаянов, – чтобы обсудить некоторые события последнего времени, а также выбрать Верховного вождя на новый срок.
Срока не бывало. Если ты занимал это место, то до исчезновения, растворения и гибели ты его не покинешь. Могут убить, могут заклевать. Но еще не было случая, чтобы Верховный ушел сам.
– Начнем ли мы с выборов? – спросил он. – Или с других вопросов?
Тут же голоса разделились. Те, кто мог рассчитывать на место Председателя, хотели начать с выборов, равнодушные или не имевшие шансов хотели заняться сначала своими проблемами.
Лаврентий Павлович тоже не хотел спешить. Пускай те, кто видит в нем угрозу, успокоятся и потеряют бдительность.
– Тогда поговорим о жизни, – сказал Чаянов. – О нашей жизни. И если позволите, я сам и начну.
Он лежал в кресле, вытянув длинные ноги в лосинах и старинных туфлях. У Чаянова была внутренняя склонность к XVIII веку, он не скрывал ее и даже порой, но не сегодня, носил парик.
– В последнее время, – продолжал Чаянов, – усилились тревожные тенденции. Пример сейчас перед глазами – этот ветер, которого быть не может. У нас не бывает ветра. Но миром правят причинно-следственные связи. Нет следствия без причины.
Не красуйся, мысленно укорил профессора Лаврентий. Все равно не изберут. Молод, не знаешь административных игр. Вот Клюкин – это серьезно. У него есть союзник, Лариса.
Лаврентию Павловичу было горько, что его организм не хочет более женской плоти, остались только сладкие следы воспоминаний. Может, это возвратится?
А то попробовать? Вернуться туда, к живым, и посмотреть, вдруг в нем снова запоют трубы. Трубы, трубы…
– В последние дни я занялся расчетами, – сказал Чаянов. – Как меня и просили коллеги.
– Погодите, погодите, – прервал Чаянова господин Победоносцев, тот самый, из учебников истории, мракобес. Он и в самом деле мракобес, а главное – крючкотворец. Вроде бы его никто не принимает всерьез, но игнорировать никто не решается. Среди консулов он теперь старший. Лаврентий Павлович проверял слухи о том, что в мире теней люди существуют вечно. По его сведениям, ничего вечного не бывает даже в вечности. Изнашивается любое физическое, или, если хочешь, называй хоть груздем, астральное тело. Вечной вечности не бывает, потому что за вечностью приходит нечто иное, следующее. «Папочка, а Вселенная бесконечна?» – «Разумеется!» – «А когда она кончается, что дальше?»
Говорят, что в провинции, в деревнях, таятся старцы по триста, пятьсот лет, рассказывают о фараоне, который появился на Невском, искал свою Нефертити. Вернее всего, это апокриф.
– Требую, – сказал Победоносцев, – прошу моих коллег по управлению государством почтить память соратников наших, сенаторов Ярославской губернии, сраженных извергами на ристалище.
Все поднялись, помолчали, каждый думал о своем.
Берия смотрел на пляж. Там, где стоял охранник, он увидел две фигуры – мужскую и женскую. Парочка медленно шла вдоль моря, остановились, глядят вдаль. А где же охранник?
История в Ярославле – опасный сигнал. Если Чаянов не даст ей оценки, придется вмешаться.
Чаянов между тем продолжал:
– Волей злой судьбы мы оказались в потустороннем мире. Не нам сейчас говорить о справедливости или излишней жестокости постигшей нас кары. Но так устроен человек, что ему свойственно привыкать к обстоятельствам, даже самым неблагоприятным.
«Ближе к делу, – мысленно подгонял оратора Берия. – Можно подумать, что у нас в запасе вечность, как говаривал мой покойный друг писатель Максим Горький».
– Хороши или плохи обстоятельства нашего существования, оказалось, что, как только возникла угроза, мы встрепенулись. Так уж мы устроены: ворчали, ужасались тому, что до конца своего бессмертия будем существовать в мире без времени, без движения, даже без облаков.
– Не надо лекций, профессор, – сказала Лариса. – Каждый из нас завершил жизнь там, наверху, когда ударили часы. Значит, он не желал жить там. Это мы уже выяснили.
– Я в самом деле профессор, – улыбнулся Чаянов, – и потому порой мне хочется разобраться в том, что со мной произошло. Почему же с некоторыми натурами в жуткий момент нежелания двинуться в будущее вместе со всем человечеством, в момент Нового года – что само по себе бессмысленно, так как Новый год – единица неизмеримая, зависящая от множества факторов, – почему с нами случился внутренний взрыв, оторвавший от человечества, от движения времени, выбросивший в странный слой существования, в мир, где нет времени, что есть вариант собственной смерти. Я понятно говорю?
– Ты не вовремя об этом говоришь, – ответил за всех Берия. Он так и не сумел избавиться от тяжелого грузинского акцента. Впрочем, даже проведшие всю сознательную жизнь среди русских грузины сохраняют акцент. Берия же попал в Москву взрослым, сложившимся партийным работником.
– Лучше лишний раз повторить, чем забыть, – ответил Чаянов. – Вам это отлично известно, Лаврентий Павлович.
Берия выкрал недавно у Чаянова книгу, из тех безответственных публикаций, что появились в 90-е годы и клеветали на ведущих членов партии. Как правило, в таких книжках Лаврентий Павлович изображался олицетворением злодейства. Все его заслуги перед Родиной замалчивались. Страшно подумать, что думают о нем дети будущего!
Лаврентий снова повернулся к окну.
Парочки не было видно. Охранник сидел на песке, прислонившись спиной к стволу высохшей сосны. Ветерок все не стихал, и полосы ряби пересекали залив.
– Мы знаем, – продолжал Чаянов, – что для нас возврата в мир живых нет. Не было никогда выхода обратно. Так сказать, оставь надежду, всяк сюда входящий. Мы смирились. Мы существовали в этом довольно слабо населенном мире, объединяясь в некие сообщества, которые не могли стать единой системой хотя бы потому, что людей слишком мало.
– И потому что нет стимула, – вмешался Грацкий. – Зачем объединяться? Что это даст? Богатство? Славу?
– Я хотела основать газету, – сказала Лариса. – Вы знаете – результат нулевой.
Никто даже не посмотрел на Ларису.
– Различные типы правления, ибо людям свойственно объединяться в социальные группы, появлялись в нашем мире. Если заглянуть в прошлое мира без прошлого…
Грацкий захлопал в ладоши:
– Браво! Браво! Какой афоризм!
– Постепенно выработался образ правления, – продолжал Чаянов, – сначала негласный, затем общепризнанный. Правление консулов. Как только нас не называли и как только мы сами не называли себя! И сенаторами, и хранителями вечности, и подпольщиками… даже такой мир, как наш, нуждается в общем, постоянном и справедливом устроении, иначе люди могут стать неуправляемыми животными.
Лаврентию Павловичу было скучно. Как надоедает стремление поговорить, показать себя.
– Мы охраняем наш мир от внешних влияний, – продолжал Чаянов. – Это не пустые слова. Они отражают действительную опасность. Оказывается, граница между нами и тем миром, в котором мы существовали ранее, прозрачна, оказывается, существовали и существуют пункты соприкосновения миров и возможности обмена между ними. Еще несколько лет назад наши московские коллеги осознали опасность таких контактов, они поняли, что именно этим путем к нам придет страшная гибель! Они постарались прекратить контакты, но были слишком слабы… и если кто-то слаб, то другой оказывается корыстен. Третий просто продажен. Даже в нашей среде нет порядка и не на кого надеяться.
– Господин Чаянов, к сожалению, совершенно прав. Скверна не только подняла голову и проникла в наши ряды, – сказал Победоносцев.
Что-то пробурчал Никифор.
Лаврентий подумал, что все происходит как в романе, где автор дает героям высказаться, всем по очереди, чтобы читатель при том понял, где происходит действие, кто хороший, а кто сволочь… Сейчас вставит свою реплику Лариса. За ней Грацкий, и разговор утонет в бесконечном обсуждении того, что обсуждать не следует.
– Продолжай, Чаянов, – сказал Берия, называя оратора по фамилии – старая партийная привычка.
– Не надо, – сказала Лариса. – Все и так знают.
– Я продолжу, – сказал Чаянов. – Слишком важна тема нашей встречи.
Берия взглянул в окно. Охранник сидел в той же позе, девушка стояла у среза воды. Вот она замахнулась – через голову, так никогда не закинуть камешек далеко. Кинула. Было видно, что фонтанчик воды поднялся метрах в десяти от берега.
– Последний сигнал, – продолжал Чаянов, – из Ярославля – показывает, насколько непрочно и опасно наше положение. Но мы, как и положено, спохватились только сейчас. Очевидно, надо было действовать уже после событий на Киевском вокзале в Москве.
– В мое время о таком и не слыхали, – сказал Победоносцев.
– В ваше время, коллега, – сказал Чаянов, – вообще ничего не происходило. Тем не менее вы умудрились подготовить падение империи.
– Если бы я был жив… – начал Победоносцев, а Клюкин передразнил его:
– Если бы я был жив…
– Вы, именно вы и довели страну, империю… – Победоносцев поднял к потолку желтый высохший палец.
Как в таком душа держится, подумал Лаврентий Павлович и чуть было не улыбнулся, что позволял себе очень редко. Вопрос о местонахождении души оставался дискуссионным.
– Вы лучше расскажите, какие проводили расчеты, – сказала Лариса. – И что нам грозит.
«Правильный вопрос. К делу. Если бы все случилось лет пятьдесят или сто назад, взял бы я эту бабу. Настоящая баба. По документам дворянка». Лаврентий Павлович предпочитал дворянок.
Он посмотрел на ту девушку, внизу на берегу.
Девушка подошла ближе к ресторану. Это лишнее. Непроверенным лицам приближение к ресторану «Приморский» не дозволялось. Наверное, ее сейчас увидят велосипедисты или кто-нибудь из охраны. Надо бы ее допросить – почему она оказалась здесь, на пустынном пляже, где ее спутник? И того охранника из внешнего оцепления надо допросить…
Занятый своими мыслями, Лаврентий Павлович упустил начало речи Чаянова, но он уже знал это начало. Не впервые разговариваем.
– Да погодите! – Эти слова относились к Победоносцеву, который не был способен по старости и изношенности многого понять, но полагал себя мудрейшим, подобно кавказским старейшинам, давно выжившим из ума и потому очень удобным для экстремистов, которые под видом мудрости готовы вложить в их дряблые уста сумасшедшие лозунги.
Все зашикали на старца, и тот, ворча, замолк.
– Наверное, каждый из нас мечтал или, наоборот, боялся возможности возвратиться обратно – ожить, вылезти из ада, увидеть близких… Проходили годы, и эти желания посещали нас все реже. И не только потому, что наши близкие и даже просто помнившие нас люди ушли из жизни, но и потому, что мы не можем там жить. Изменилась наша кровь, изменились наши ткани… в это трудно поверить, но мы уже мертвецы. Если вернусь туда, откуда я родом, то через несколько часов или минут перестану существовать. Откройте гроб, в который не поступал воздух, и в первые моменты вы увидите черты лица покойного, словно он только что заснул, но в течение минут свежий воздух сделает свое страшное дело. Тело превращается в гнилую массу черной плоти…
– Господин профессор, я вас умоляю! – воскликнул Клюкин. – Хватит мне того, что я состою из плоти, смертной и непрочной, не повторяйте, что она отвратительна!
– Мы бесплотны, мой дорогой, – заметила Лариса. – Потому нам так хорошо.
– Не богохульствуйте! – прошептал Никифор.
Лаврентий Павлович смотрел на берег. Девица исчезла, но не уходила по берегу прочь – он бы заметил. Надо бы сейчас сбегать вниз, поглядеть, не подбираются ли чьи-то агенты к ресторану. Чьи-то агенты! Смешно звучит.