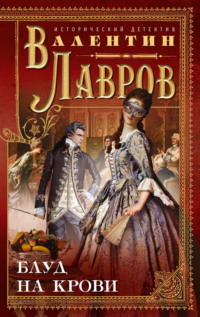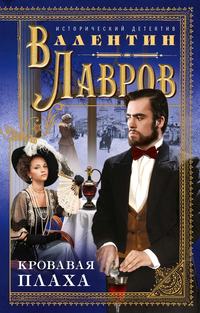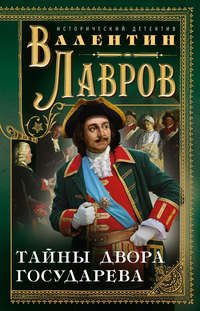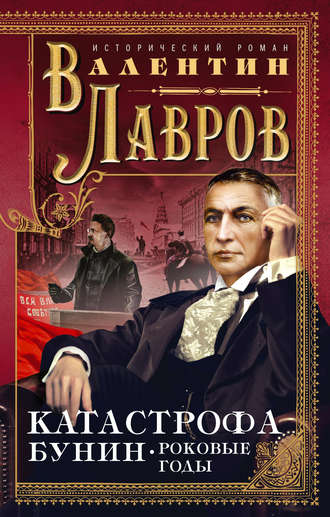
Полная версия
Катастрофа. Бунин. Роковые годы
– Против мировой революции не спорю, но этот пост не займу! – решительно заявляет Троцкий. Он отлично понимает его паскудность. В стране разруха и бандитизм, которые – легко догадаться! – станут в ближайшем будущем лишь увеличиваться. Так зачем ему нужна эта головная боль?
– Почему вы не цените наше доверие? – вдруг строго спрашивает Ленин.
– Я ценю. Однако я еврей.
– Ну и что? – запыхтел Ленин. – Тут почти все евреи сидят. Так их и наркомами не назначать? Один глупый еврей стоит больше, чем два русских умника.
– Умоляю вас, Владимир Ильич! Внутренние дела – такой участок, что с еврейской национальностью никак нельзя. Давайте Сталина назначим.
Троцкий откровенно недолюбливал Сталина, справедливо подозревая его в антисемитизме. Вот теперь он хотел поставить его на собачью должность, на которой он свернет себе шею.
– Нет, Сталина нельзя! – вмешался Зиновьев. – Он большевик честный, но у него характер слишком мягкий.
Ленин согласился:
– Наш грузин – чудесный человек, но слишком либеральный. К тому же я хочу поставить его к важному делу – руководить национальными делами.
Все согласно закивали: должность незаметная, на нее никто не претендовал.
В разговор вмешался Рыков:
– Назначим Льва Давидовича наркомом путей сообщения – это тоже ответственный участок.
Ленин уперся на своем:
– Нет и нет! Лев Давидович должен служить нашему делу с максимальной пользой. Лучшего организатора по борьбе с саботажем и контрреволюцией – принципиального и жесткого – нам не найти. По сравнению с этой задачей ваше еврейство, Лев Давидович, сущий пустяк!
– Дело-то, быть может, великое, да дураков в России пока хватает! – спорит Троцкий.
– Да разве мы должны по дуракам равняться? – кипятится Ленин.
– Равняться не равняться, а маленькую скидку на глупость россиян делать необходимо. Зачем нам эта головная боль?
Вдруг поднялся Сталин:
– Мнение народа учитывать надо, в этом товарищ Троцкий абсолютно прав. – Голос его звучал спокойно и убедительно. – Зачем с самого начала осложнения? И так говорят про вас, что германские шпионы. И еще, что октябрьский переворот – дело всемирной еврейской мафии.
Все неловко замолчали. Лишь Ленин сердито зыркнул глазами:
– Мы собрались здесь, товарищ Сталин, вовсе не для обсуждения буржуазной болтовни и контрреволюционных сплетен, за которые надо ставить к стенке без суда и следствия.
– Это не просто болтовня, – произнес Сталин. – Пока в мире существует капитализм, существуют порожденные им нации. Стало быть, существует национальная рознь. Не учитывать это – значит впадать в эйфорию. – Сталин не спеша огляделся и медленно продолжал: – Когда мы добьемся полного равноправия всех наций? Лишь тогда, когда ликвидируем национализм и национальную вражду. К сожалению, процесс этот сложный и очень долгий. Наше поколение, как справедливо заявляет товарищ Ленин, будет жить при коммунизме. Но увидит ли наше поколение исчезновение национальной розни? Очень сомневаюсь. Так что товарищ Троцкий абсолютно прав: с национальным вопросом пока считаться надо.
Сталин медленно, с чувством собственного достоинства опустился в кресло.
Ленин, криво усмехнувшись, с иронией бросил:
– Спасибо, товарищ Сталин, за интересную лекцию. Но прежде чем ликвидировать национализм, нам надо ликвидировать наших многочисленных врагов. Иначе… – И он красноречиво провел ладонью перед своим горлом.
В разговор вступил Свердлов. Из его плоской груди то и дело рвется сухой кашель.
– Пусть Троцкий – кх, кх, кх! – берет иностранные дела… кх, кх…
Троцкий удовлетворенно хмыкнул, а Ленин по-бычьи опустил голову, взглянул исподлобья:
– Интересно, какие у нас иностранные дела?
Троцкий поддержал:
– Они у нас есть, Владимир Ильич. Вы меня можете спросить: об чем тут думать, если вот-вот пролетарии всех стран объединятся и старому миру придет фэртиг? И тогда я вам отвечу: пока такое не произошло, надо подумать об том, чтобы с мировой буржуазией иметь отношения. Дипломатические.
Ильич крепко задумался. Он прищурил левый глаз, а правым взирал меж растопыренных пальцев то на Троцкого, то на Свердлова. Не знавшие этой особенности вождя от сей манипуляции впадали едва ли не в обморочное состояние – от ужаса. Дело было просто: один глаз у Ильича был близоруким, другой дальнозорким. Пальцами он корректировал зрение. Правду сказать, никто не умел объяснить это. И лишь по смерти вождя вскрытие разъяснит эту невинную привычку.
Вскрытие многое объясняет.
Ленин сообразил, что Свердлов и Троцкий говорят дело. Ближайшая задача – подписание срамного договора с Германией и – необыкновенное дело! – полная капитуляция перед практически стоящим на коленях врагом. Троцкий это дельце обтяпает ловчее других. Ленин улыбнулся:
– Убедили! А с контрреволюцией мы будем бороться все вместе, не считаясь с ведомствами и национальными принадлежностями.
* * *Так Лев Давидович встал во главе советской дипломатии – ровно на три месяца. Столько времени понадобилось для того, чтобы подписать Брестский мир. Тот самый, который заставил покраснеть всех честных россиян.
Каждый получил от праздничного пирога то, что ему причиталось.
В итоге председательствовать Всероссийским Центральным Исполкомом досталось Льву Каменеву. После недолгого правления, за отсутствием минимальных способностей, эту должность он был вынужден передать Свердлову. Рыков стал наркомом внутренних дел, Сталин – наркомом по делам национальностей, Дзержинскому было приказано беспощадно искоренять саботаж и контрреволюцию.
Ленин возглавил партию-победительницу. Он все более влюблялся в Троцкого, прилюдно, во время горячих дебатов в партийном комитете Петрограда 1 ноября, воскликнул:
– Право, нет лучше большевика, чем Троцкий!
Так уж вышло, что их кабинеты разместились в противоположных концах Смольного.
– Может, нам установить сообщение на велосипедах? – шутил вождь. – Будем друг к другу в гости ездить…
Но пока что, семеня жидкими ножками, Троцкий несколько раз в сутки пускался в путешествие – на совещание к Ленину. Молодой здоровый матрос, недавний анархист и приятель такого же анархиста – матроса Железняка, наводивший ужас своими похождениями на весь Петроград, именовался «секретарем Ульянова-Ленина». Матрос почти без перерывов едва ли не рысью носился меж двух начальнических кабинетов.
Ленин отправлял записки, начертанные мелкими неудобочитаемыми кудряшками и снабженные многократными подчеркиваниями наиболее важных мыслей – двумя или тремя линиями. Часто эти записки содержали проекты декретов, требовавших неотложных отзывов.
Троцкий поправлял и дополнял текст нежно любимого друга и вождя. Он кидал документ на край громадного стола. Матрос, всегда стоявший во время своих визитов у дверного проема (присесть его никогда не приглашали), хватал записку и устремлялся к другому вождю.
Во время заседаний Совнаркома, которые проходили ежедневно и длились не менее пяти-шести часов, Ленин сажал Троцкого рядом с собой. Пока выступали ораторы, у этой пары завязывалась горячая беседа. Троцкий ласково называл вождя Ильичем, а тот его по партийной кличке – Перо.
Уже в первые недели дипломатической деятельности Троцкого Ленина весьма заинтересовала его «война с башней Эйфеля».
– Что, злые передачи ведут французы? – спрашивал вождь.
– Истекают ядом. Всякую мерзость – про вас, Ильич, про Надежду Константиновну, про меня… Обзывают аферистами и местечковым жульем. Досадно, что на русском языке – ведь у многих умельцев есть радио. Я хорошо знаю журналистский стиль Клемансо. Уверен, что это его статьи передают в эфир.
– А в нашем распоряжении царскосельская башня. Дайте сдачи…
– Даю! Самолично говорю в эфир. Все равно не унимаются. Про наши интимные отношения распинаются.
– Нажмите, Перо, на Нуланса. По агентурным сведениям, сплетни распространяются из французского посольства. Попробуйте найти с ним общий язык.
* * *Через три дня состоялась встреча Троцкого с послом Нулансом. Хотя оба разговаривали по-французски – один на дурном, другой на природном, – но общего языка найти не сумели. Отказался Нуланс и от щедрого подарка – «дань признательности свободолюбивому французскому народу» – от кофейного сервиза, прежде принадлежавшего Николаю II.
Тогда Лев Давидович предпринял наивную попытку действовать через генерала Нисселя, начальника французской миссии. Тот был вызван в Смольный и разговаривал с красным вождем, как строгий учитель с нашкодившим мальчишкой.
Троцкий был взбешен. Он направил в посольство письмо. Среди других было требование: «Приемник-передатчик беспроволочного телеграфа из миссии устранить!»
В торжественной обстановке, при свидетелях из Красной гвардии передатчик был выдворен из миссии и затем – из пределов большевистского государства. Вместо категорического Нисселя в Петроград прибыл щеголеватый и вкрадчивый генерал Лавернь. Но бдительность Троцкого этими переменами усыпить не удалось.
Нарком позже утверждал: «Французская военная миссия, как и дипломатия, оказалась вскоре в центре всех заговоров и вооруженных выступлений против советской власти. Но это уже развернулось открыто после Бреста…»
Ах, эти коварные, хоть и «свободолюбивые» французы!
4В те дни, когда большевики дорвались до власти, австрийский министр иностранных дел граф Черни, находясь в Вене, живо интересовался событиями в России. Он писал одному из своих друзей: «За последние дни я получил надежные сведения о большевиках. Вожди их почти все евреи с совершенно фантастическими идеями, и я не завидую стране, которой они управляют».
Подобные наблюдения сделали не только представители «компетентных органов», но и самые простые обыватели. Из всех потайных щелей лезли к октябрьскому пирогу разные темные личности, аферисты всех мастей. Одни прибывали сюда из-за границы, другие из тюрем, причем никто особенно не интересовался, за что там сидел новобранец революции – за «экспроприацию», убийство или растление малолетних.
Лучшей рекомендацией было утверждение, что новобранец – «идейный враг буржуазии», готовый уничтожать ее днем и ночью. Как и всякой революции, великому Октябрю требовались люди жестокие и беспринципные, ненавидевшие свою страну и своих сограждан. Шансов отличиться было больше всего у типов с уголовной психологией.
Вчерашние изгои, поднявшиеся к власти разных уровней – от ЦК партии до сельских комбедов, – они вполне искренне ненавидели прошлое – и свое личное, и всей России. И в то же время любыми средствами, чаще всего кровавыми, отстаивали свое новое положение: возможность распоряжаться не только чужим имуществом, но и чужими жизнями; сидеть в удобных кабинетах, пользоваться безотказной любовью секретарш и актрис; распределять блага среди родных и знакомых; устраивать на теплые местечки детишек и родственников.
Но чтобы легче насаждать новое, следовало как можно быстрее уничтожать память о прошлом.
* * *Бунин с недоумением обнаруживал на вывесках грязные пятна. Сначала он не понял суть дела, но, вчитавшись, разглядел замазанные слова: «поставщик двора», «императорский», «высочайший» и прочее.
Зато повсюду торчали кумачовые флаги, под дождем и снегом быстро линявшие и превращавшиеся в тряпки.
– Поругание на семьдесят семь лет! – повторял Бунин слова, услышанные на Трубе. – Нет, нашей жизни не хватит…
Времена и впрямь наступали страшные, апокалипсические.
Боже, царя храни!
1Когда-то в молодые годы Бунин неустанно торопил время. Будущее всегда рисовалось заманчивыми красками. Впереди маячили новые радости, новые встречи, новые влюбленности и выход новых книг. Но наступало это будущее, остывали амурные страсти, недолго радовали уже вышедшие книги, и счастье таяло, как тонкий иней под июльским жаром.
Когда перевалило за сорок, Бунин произнес с некоторым удивлением:
– Да ведь это не время, это сама жизнь уходит. Может, и впрямь прав Толстой: лучшего времени, чем настоящее, никогда не бывает?
И, осознав, что новые радости и новый успех приобретаются лишь в обмен на прожитые годы, он более никогда не погонял свою жизнь.
Но уже несколько месяцев Иван Алексеевич, как миллионы других россиян, с нетерпением ожидал великого события – Учредительного собрания!
Собственно, отказ государя от трона и последующие события шли под лозунгом созыва этого собрания. Казалось, после февраля семнадцатого года идея собрания из эфемерной и теоретической обязана воплотиться в жизнь. Никто против «учредиловки» не возражал. В первом же «Обращении к народу» (2 марта 1917 года) председатель IV Государственной думы Родзянко и все правительство во главе с князем Львовым провозгласили о «немедленной подготовке к созыву на началах всеобщего, равного и тайного голосования Учредительного собрания, которое установит форму правления и конституцию страны».
К будущему Учредительному собранию обратился и великий князь Михаил Александрович. Он отверг наследие брата Николая II – российский трон. Впрочем, не совсем отверг, а заявил, что примет верховную власть лишь в том случае, если «будет такова воля великого народа нашего, которому и надлежит всенародным голосованием через представителей своих в Учредительном собрании установить образ правления и новые основные законы государства Российского».
Министры всех составов – социалисты, кадеты, октябристы и прочие – при вступлении в должность подкрепляли присягу клятвой «принять все меры для созыва в возможно кратчайший срок».
Спустя много лет, находясь уже в Париже, секретарь Учредительного собрания Марк Вишняк признавал: «Идея неограниченной учредительной власти, принадлежавшей совокупности суверенных граждан и осуществляемой ими по своему усмотрению, получила широкое распространение благодаря европейским теоретикам – Локку, Пуффендорфу и Вольфу».
Бессмысленные съезды различного рода – профессиональных, общественных, национальных и иных организаций составляли постановления с выражением преданности Учредительному собранию, «хозяину земли Русской». Им вторили официальные органы Православной церкви. Даже армия присягала на верность Временному правительству лишь до вступления в силу Учредительного собрания.
Столицы и захолустные городишки, фабричный люд и селяне, левые, умеренные и даже большевики – все с единодушием и энтузиазмом принимали будущий верховный законодательный орган.
2– Нет, все-таки Учредительное собрание – это наша единственная надежда, – говорил Станиславский, у которого собралась шумная компания.
Было 4 января восемнадцатого года. Актеры, писатели, художники отмечали день рождения Константина Сергеевича. Правда, сам «малый» юбилей – пятидесятипятилетие мэтра был на следующий день, но по предложению супруги юбиляра, Марии Петровны, решили праздновать накануне, ибо в театре был свободный день. После спектакля, как собирались прежде, это было неудобно: слишком опасно стало появляться на улице в поздний час.
Вот и пришли к Станиславскому засветло. Спорили и говорили все о том же – об Учредительном собрании, которое начнется завтра в Петрограде в Таврическом дворце.
– Пусть это станет концом кровавого большевизма и началом новой великой России! – провозгласил Бунин, и все осушили бокалы а-ля фуршет.
Константин Сергеевич с пониманием кивнул и пророкотал своим чудным, бархатным голосом:
– Согласен с вами, Иван Алексеевич. Учредительное собрание – это, думаю, единственно возможный и оставшийся в нашем распоряжении путь к восстановлению демократии… Вы согласны с нами, Иван Михайлович?
Вопрос к Москвину был адресован неспроста. Гордость Художественного театра и лучший исполнитель роли царя Федора Иоанновича в пьесе А. К. Толстого в этот момент с излишней горячностью спорил со скульптором Коненковым. Дискуссия была актуальной: водки чьих заводов лучше – Шустова или Смирнова?
В разговор вступил Шмелев, ставший знаменитым после своего «Человека из ресторана»:
– Простите, что вмешиваюсь. Больную для меня тему затронули. Я внимательно нынче газеты читаю, слишком много разговоров об одном и том же: Учредительное собрание, Учредительное собрание…
– Иван Сергеевич, вы не правы! – улыбнулся Бунин. – Иван Михайлович с Сергеем Тимофеевичем с аппетитцем говорят о более насущном…
– Не смейтесь, Иван Алексеевич! Какие могут быть шутки, когда большевики захватили власть и с каждым днем узурпируют ее все более? Неужели вы думаете, что делают они это лишь для того, чтобы законней провести это собрание и провозгласить демократическую республику?
– Она уже провозглашена! – вставил слово Станиславский.
Москвин закончил мудрой сентенцией:
– Для почину выпить по чину! – Что и было сделано.
– Третьего сентября уходящего революционного года свершилось неслыханное надругательство над идеей Учредительного. Гражданин Керенский самолично присвоил себе права собрания и провозгласил Россию республикой…
– Не монархию же, а республику, – заметил Коненков.
– А делать этого все равно не стоило! Лишь Учредительное собрание уполномочено на это…
– Вы, Иван Михайлович, безусловно, правы! – Станиславский хотел ужинать, а политические споры ему всегда претили. – Большевики назвали окончательную дату созыва собрания – пятого января. Вот завтра еще раз республика и будет декларирована.
Шмелев нервно дернул головой и резко отчеканил:
– Большевики власть не отдадут – ни Учредительному собранию, ни эсерам – никому!
Бунин скептически улыбнулся:
– Как это – не отдадут? Ведь выборы двенадцатого ноября обеспечили большинство мест в «учредиловке» не им, а эсерам!
Москвин еще раз блеснул замечательной памятью:
– За эсеров отдали голоса пятьдесят восемь процентов избирателей, а за большевиков лишь двадцать пять.
Шмелев возмутился:
– Каждый пятый одобряет кровожадных ленинцев! Это и удивительно, и возмутительно.
– Да, русского человека понять невозможно, – кивнул Станиславский.
Шмелев продолжал:
– Впрочем, количество ничего не решает. Беда в другом: с оружием у сторонников демократии во все времена было хуже, чем у экстремистов. Один пулемет говорит убедительней тысячной толпы.
– Но повсюду созданы комитеты в защиту Учредительного собрания. Даже ко мне приходила депутация, и я поставил свою подпись.
Шмелев невежливо расхохотался:
– Ну, Константин Сергеевич, если подпись… То оно конечно.
В этот момент, покинув женщин, весело щебетавших на угловом диванчике, подлетела Книппер-Чехова:
– Господа спорщики! Не стыдно ли забывать дам ради каких-то глупостей?
Коненков галантно поцеловал Ольге Леонардовне руку:
– Отнюдь нет! Помним вас и любим.
– Тогда прощаем.
– А я расскажу анекдот… политический, – со смехом щелкнул пальцами изящный, почти хрупкий, с моноклем в правом глазу Алексеев.
Все с интересом обратились к нему:
– Сделайте одолжение, Алексей Григорьевич, расскажите!
– Троцкий лег спать, но предупредил часового: «Разбуди ровно в шесть утра!» Назначенное время пришло, вождь революции дрыхнет, а красногвардеец ломает себе голову, как бы деликатней разбудить вождя. «Господин» – нельзя, «товарищ» – страшно, какой он «товарищ» красному вождю? Аж вспотел, потом махнул рукой, влетел в спальню и во все горло заорал: «Вставай, проклятьем заклейменный!»
Все рассмеялись.
3В гостиной появилась задержавшаяся из-за неловкости горничной Мария Петровна, жена Станиславского. А неловкость эта заключалась в том, что она сожгла новое платье хозяйки, сшитое за громадные деньги у самого Жоржа и в котором Мария Петровна желала быть на сегодняшнем приеме. По этой причине у Марии Петровны было скверное настроение, и стоило больших усилий скрывать досаду и раздражение.
Ей пришлось надеть черное шелковое платье с глубоким декольте и опоясанное выше талии серебряным плетеным пояском, то самое, в котором она – о, ужас! – уже справляла Новый год. Она знала, что это платье выгодно подчеркивает ее по-девичьи стройную фигуру, обрисовывает женские прелести, и это Марию Петровну несколько утешало. Когда она появилась в гостиной, блестя глянцем волос и со вкусом подобранными бриллиантами, все потянулись к ней. Мужчинам она подставляла руку для поцелуя, дамам умела бросить комплимент по поводу их платья или прически и при этом привычно следила за гостями: все ли идет согласно ритуалу, не скучают ли дамы, не слишком ли громко спорит Немирович-Данченко со Шмелевым, почему излишнее оживление вокруг конферансье Алексея Алексеева – приличное ли он рассказывает?
Когда Бунин подошел к Марии Петровне, та радушно улыбнулась и почти с искренним восхищением произнесла:
– Поздравляю, Иван Алексеевич, с новой книгой! Вчера весь вечер наслаждалась чтением.
– Какой именно? – полюбопытствовал Бунин.
– Ну, в красном переплете. Называется «Избранные рассказы». Изумительный рассказ «Числа». Я была тронута до слез.
И хотя книга была давно не новой, да и рассказ назывался не «Числа», а «Цифры», и Бунин был уверен, что хозяйка дома вовсе не читала и все эти восторги были обязательной приправой и полагались в нужной дозе, как соус к мясу, он вежливо благодарил ее, приложившись к маленькой легкой кисти.
Неслышно появился камердинер в высоких белых чулках и что-то сказал, почтительно склонившись к Марии Петровне. Она громко произнесла:
– Messieurs et mesdames, прошу к столу!
Не прерывая беседы, гости ручейком потянулись в большую залу – здесь был накрыт ужин. Свет громадной хрустальной люстры весело отражался в тарелках саксонского фарфора, в хрустале бесчисленных рюмок, фужеров, бокалов, подставках приборов, целой батареи вин, водок, коньяков, ликеров.
* * *Уже полтора десятилетия Станиславский снимал у некоего Маркова роскошный особняк под номером 4 по Каретному Ряду. Он был о двух высоких этажах с антресолью и большим балконом.
Десяток его комнат хозяева обставили с возможной роскошью – мебелью красного дерева, зеркалами в резных рамах мореного дуба, картинами западных мастеров прошлых веков, громадными фарфоровыми вазами, уходящими под высоченный потолок шкафами со старинными книгами, гравюрами на стенах. Обстановка располагала к неге и высоким творческим порывам.
Несколько комнат на первом этаже были отведены челяди – камердинеру и его семье, кухарке, повару с женой, горничным, дворнику, кучеру, истопнику, сторожу. Самая сухая и теплая комната предназначалась старому слуге Василию, неутомимо шаркавшему ревматическими ногами по всему дому и строго следившему за порядком. Он знал Станиславского малым ребенком. И по сей день Василий почитал долгом поджидать хозяина в прихожей, отворяя ему двери и помогая снимать шубу.
Во времена стародавние, когда Алексеевы – родители Константина Сергеевича – жили в доме 8 по Садовой-Черногрязской и маленький Костенька собирался в 4-ю гимназию, что располагалась в знаменитом «доме-комоде» Апраксиных на Покровке, Василий, тогда еще молодцеватый парень с белокурой гривой волос, неизменно норовил надеть барчуку калошики:
– Что из того, что сухо? Погоды нынче переменчивые. Набежит дожжик, ножки и промочите.
С той поры минуло полстолетия, но Василий, полысевший и согнувшийся, каждый раз подходил в прихожей к Станиславскому и, протягивая калоши, требовательно произносил:
– Вы уж, барин, наденьте калошики…
– Да, нынче погоды переменчивые, – улыбался Станиславский.
– Ишшо какие! – Василий предпочитал не замечать иронии барина. – Скверные погоды… Так что позвольте, я вам калошики как раз надвину. Ботиночки лаковые, попортите…
Когда Бунин впервые увидал Василия, то не удержался:
– Фирс, убей меня бог, настоящий Фирс из «Вишневого сада».
Эта кличка так и осталась за Василием, любившим вспоминать «правильные времена», то есть времена, давным-давно ушедшие, крепостные.
За домом шел большой сад. Летом, в хорошую погоду, тут устраивались репетиции, публичные чтения и, конечно, ужины. Под тенистыми сводами беседок здесь пили шампанское Александр Блок и Федор Шаляпин, Евгений Вахтангов и Максим Горький, Мстислав Добужинский и Айседора Дункан.
* * *Тонко звенели бокалы, мягко стучали по тонкому фарфору серебряные ножи и вилки, пенилась заздравная чаша. В канделябрах потрескивали, взвивая тонкие струйки дымков, десятки свеч (электрические лампы в начале застолья погасли). Выпили за здоровье новорожденного, за хозяйку, за Художественный театр, за Учредительное собрание.
– Господи! – перекрестился Бунин. – Мы отдыхаем, как в наивные прелестные времена наших дедушек и бабушек, во времена кринолинов, дуэлей, картежников, гусаров-усачей, когда уланы носили мундиры с ранжевыми отворотами, а желание юных дворян служить в кавалерии можно было сравнить лишь с безумной страстью к женщинам и отваге.
– И кутежи по три дня без отдыха! – вдруг раздался могучий голос.
Все повернули головы.