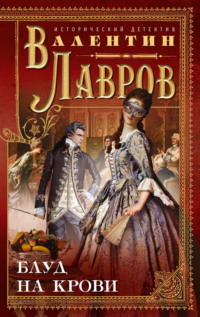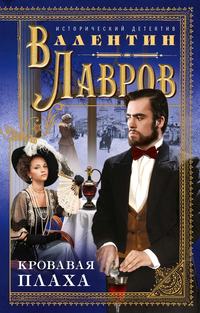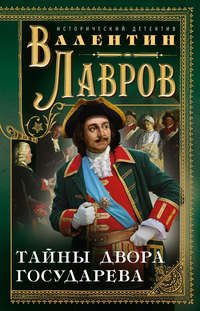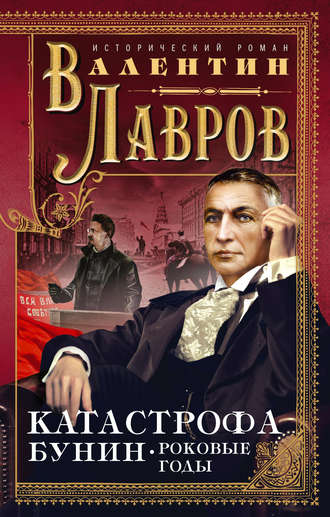
Полная версия
Катастрофа. Бунин. Роковые годы
– Буржуев какой день уже громят, – повернув плотную шею, пробасил извозчик. – Из квартир выгоняют, добро отбирают.
Когда поворачивали к Чистым прудам, со стороны Ильинки с пугающей близостью грохнули пушечные выстрелы, раздался сухой треск ружей и дробный стрекот пулеметов. Где-то поблизости, выбивая из окон стекла, ахнул взрыв. У Бунина заложило уши, потемнело в глазах.
Лошадь присела на задние ноги и вдруг понеслась, словно шалая. Упираясь в передок, извозчик тянул вожжи:
– Тпру, окаянная! Куды тебя несет?
Вера вцепилась в руку мужа. Возле углового дома упала старуха, уронив кошелку, разметав в стороны руки. Но поднялась, пригибаясь почти до булыжной мостовой, заковыляла к ближайшему подъезду.
Миновали Мясницкие Ворота, споро спустились со Сретенской горки. Тут извозчик стал сдерживать лошадь. На Трубной площади, в народе прозванной Трубой, стояла густая толпа. Это был народ разных званий и возрастов, но преобладали плохо одетые люди рабочего вида, толкавшиеся без дела. Труба годами служила птичьим базаром.
Бунин повернул лицо к жене:
– «Люди на Трубе копошатся, как раки в решете». Это Чехов сказал. До чего же точно!
Вера удивилась:
– Надо же! Бунина чуть бомбой не прихлопнуло, а в нем художник говорит.
Оба вдруг улыбнулись.
– Чем труднее положение, тем больше обостряется восприятие, за собой словно со стороны наблюдаю. Кстати, такая способность была сильно развита у Толстого. Думаю, это одна из причин, почему он не ведал страха.
– Как и ты!
– Даже сравнивать грех! Он один такой – сияющая горная вершина, а мы – муравьи у ее подножия.
* * *Извозчик остановился. Дорогу преградила толпа, слушавшая почтенного господина с густой окладистой бородой, похожего на купца. Поворачиваясь влево и вправо, он убежденно говорил:
– Германский кайзер сто пудов золота нашим революционерам отвалил. Дескать, рушьте все, а за мной не заржавеет, я вам за усердие еще добавлю. Вот российский престол и низвергнули. Теперь перестреляют сто тысяч православных, а из церквей все иконы вынесут. Поругание начнется… Ровно на сто лет!
Старуха в древнем рыжем салопе, внимательно слушавшая купца, заголосила:
– Матушка Царица Небесная, спаси и сохрани от извергов!
Проходивший мимо белокурый человек лет тридцати, в студенческой фуражке, в хорошей суконной шинели, с громадным дымчатым шарфом вокруг шеи, поправил пенсне и, презрительно посмотрев на купца-оратора, сквозь зубы процедил:
– А в пятом году тоже кайзер помогал? Привыкли виновных на стороне искать.
– Ты, студент, не лайся! – вступила в разговор толстая баба, перехваченная крест-накрест цветной шалью, державшая в руках хозяйственную корзину. – От вас, смутьянов, одно беспокойство. Митинги, паразиты, устраивали!
– Пороть чаще их надо, этих стюдентов, – заметил извозчик, решительно направляя сквозь толпу лошадь.
К Бунину подскочил мальчишка в косо сидящем картузе.
– Дяденька, купи патроны. – Он протянул пригоршню. – За семик все отдам.
Извозчик поднял кнут:
– Я тебе, шельмец, сейчас такой семик дам, что до морковкина заговенья будешь помнить. Не беспокой барина!
Мальчишка отстал.
Выехали на Страстной бульвар.
В центр не пропускали ни пеших, ни конных, только «своих» – по мандатам. Густая цепь солдат запирала все подходы к генерал-губернаторскому дому. Теперь там был штаб большевистских отрядов.
Беспрерывно нажимая на клаксон, лихо подлетели два авто, из которых торчали красные флаги. Солдаты моментально расступились.
– Во как начальники раскатывают! – щелкнул кнутом кобылу извозчик. Помолчав, добавил: – Хоть бы все, собаки, друг друга перестреляли. Оставшихся – на осину, царя-батюшку обратно на престол.
Трах! Бах! – загремело с Петровки.
Вера перекрестилась, извозчик хлестнул кобылу, а Бунин увидал в нескольких шагах от себя двух санитаров. На длинных узких носилках несли человека с безвольно болтавшейся окровавленной головой. Длинные смолянистые волосы спеклись в густую массу, оттеняя смертельно бледное лицо с закатившимися глазами.
У Бунина болезненно сжалось сердце.
* * *Чем ближе к центру города, тем делалось тревожней. Под воротами, возле дверных навесов и по углам домов стояли солдаты с винтовками, опасливо и зорко посматривая во все стороны. С Охотного ряда беспрерывно раздавалась стрельба. Здесь улицы были тревожно-пустынны.
По Тверской, со стороны Ходынского поля, неслись авто, набитые вооруженными солдатами и рабочими. Из кузова торчали вверх винтовки с примкнутыми штыками. Издали все это напоминало ощетинившихся ежей.
По мостовой, ближе к тротуарам, двигались отряды Красной гвардии и солдат. Некоторые были опоясаны пулеметными лентами. Шли вразброд, почти не разговаривая. В их лицах чувствовалось напряжение, тревожное ожидание. Бесшабашней выглядели юнцы в засаленных и рваных рабочих пиджаках, подпоясанных новыми солдатскими ремнями. На ремнях болтались серые холщовые сумки с патронами. Юнцы неумело тащили винтовки, то и дело перебрасывая их с плеча на плечо.
– Куда они? – недоуменно спросила Вера.
– На бойню! – коротко ответил вконец помрачневший Бунин.
Из Страстного монастыря вышла большая группа вооруженных рабочих. Стараясь выглядеть боевитей, они с малым успехом пытались сохранить стройность в рядах и при этом пели:
Смело, товарищи, в ногу…– Большевики пошли власть завоевывать! – усмехнулся извозчик.
На монастырской башне зазвонили часы. Звучали они по-старомодному печально и звонко, словно перекликалась стая заблудившихся в тумане волшебных, нездешних птиц.
Извозчик повернул широкую спину и перекрестился на колокольню.
Вера прижала платочек к глазам. Бунин нахмурился.
Господи, думалось ему, неужели это конец? Неужели толпа сокрушит Россию? Нет, не может быть! Россия велика и могущественна.
Когда пересекали Большую Никитскую, на углу Медвежьего переулка вновь увидали санитаров, сносивших убитых и раненых к крытому авто с красным крестом. Рядом с авто металась, словно черная тень, растрепанная женщина. Она вздымала к небу руки и неистово голосила:
– У-у, батюшки! Ох, родимые… О-о-о… Юнкеря убили моего сыночка. У-у-у… – И она повалилась на землю.
– А все-таки, – убежденно повторил извозчик, направляя лошадь в разрыв между колоннами, – всех социалистов – на осину! Чем быстрей, тем спокойней. Пока гидра в силу не вошла.
3Все жили словно на вокзале: в постоянном ожидании поезда, который повезет в «лучшее будущее», обещанное большевиками всем, кроме буржуев. Землю – крестьянам, заводы – рабочим, свободу – «трудящимся», под которыми подразумевались те же крестьяне и рабочие.
Что касается всего остального многомиллионного населения бывшей Российской империи, то новая власть призывала на их головы все самое страшное, что существует под солнцем. Открывая газету, Бунин ежедневно находил призывы: «Уничтожить паразитные классы общества!», «Беспощадно истреблять эксплуататоров!», «Полностью подавить сопротивление буржуазии, уничтожить ее как класс!»
К ружью приравняли перо не только генералы от большевистской литературы Демьян Бедный и Владимир Маяковский, но из каких-то щелей повылезали новоявленные барды. Один из самых шустрых – сын одесского мещанина Иоля-Шимона Гершонова-Безыменского Александр, который вскоре будет признан первым поэтом комсомолии. Он сочинил не шибко грамотное, но ужасно страстное стихотворение «Красный террор», посвященное кровожадному уродцу – Марату:
Эй, Пролетарий,Смело вперед!Грозную каруТруд принесет.Помни: мы судьи!Знай же, кто враг:Меч ПравосудьяВ наших руках…Кровь ради крови.…Знай – безотраденПуть полумер.Покатилась Русь-матушка с той высоты силы и величия, на которую взбиралась веками. И катилась она, согласно законам физики, все быстрее и быстрее, так что порой казалось благом окончательное падение. Пусть придет любая власть, лишь бы она была твердой, лишь бы прекратила бандитизм, наполнила прилавки былым изобилием.
Каждый день гремели пушечные удары, порой так близко, что жалобно звенели стекла. Случались и перерывы. Полчаса, а порой час царила тишина, и это затишье было особенно тяжелым. Что пушки вновь выпустят снаряды – сомнений нет, но где на этот раз они упадут, куда и кому принесут смерть? Люди стали беззащитными.
Кровь ради крови…
4В каждом доме, в каждой семье двухмиллионной Москвы, в ее 563 церквах с 698 приделами при них люди страстно молили Господа о мире, о том, чтобы пресекли большевиков с их грабежами, насилиями, убийствами.
Бунин твердил:
– Только законная власть спасет Россию! – подразумевая теперь под такой властью кого угодно, только не большевиков.
Но большевиков пока никто не пресекал. А вот они пресекали кого угодно.
Облачившись в халат, Бунин нервно расхаживал по гостиной – из угла в угол, натыкаясь на табурет возле рояля, чертыхаясь, то и дело подходя к окну, словно надеясь, что там вот-вот произойдут перемены к лучшему.
Зазвонил телефон. Телешов спросил:
– Иван, что у вас на Поварской, стреляют?
– Еще как! – грустно усмехнулся Бунин. – Большевики, кажется, Москву перепутали с германским фронтом.
– Как раз нет! Там они призывают сдаться на милость победителей.
– Видать, против своих воевать им охотней!
– Еще бы! В Питере у них гладко все прошло.
Бунин с тревогой спросил:
– Неужто и здесь они власть захватят?
– Вряд ли! – уверенно возразил Телешов. – Весь Московский гарнизон остался верен присяге. Создан «Комитет общественной безопасности». Наши укрепились в Кремле, телефонная станция тоже в наших руках.
– В Кремле ведь весь арсенал был?
– Он там и остался! В этом наша сила. Мятежники почти безоружны.
– Я вчера встретил на Зубовском бульваре генерала Потоцкого. Он сказал, что в руках большевиков тяжелая артиллерия.
Телешов ахнул:
– Не будут же они из пушек палить по кремлевским святыням! Русский человек не может опуститься до такой низости. А я к тебе с приглашением. Приезжай к нам с Верой Николаевной.
– Пожалуй, приеду! – охотно согласился Бунин. – Особенно если чаем напоишь. Сахар еще есть?
– Не только чаем, обедом накормлю. Таким, как в мирное время. К обеду и приезжайте, к шести часам.
* * *Славный уют телешовской квартиры с ее старинным убранством, мягкий свет керосиновой лампы-«линейки» (электроэнергию опять отключили), тишина в доме и за окном (с наступлением темноты перестрелка закончилась) – все это миром сошло на истерзанную душу.
Елена Андреевна, супруга Телешова, сервировала стол. Приборы, как и положено солидному купеческому дому, были серебряными. Кухарка Саша, крепкая деревенская девка, светившаяся каким-то особым расположением к людям, готовностью служить всякому, с кем сводит судьба, ловко помогала хозяйке.
Их сын – Андрей Николаевич, семнадцатилетний студент с тщательным пробором и в лакированных штиблетах – утонул в глубоком мягком кресле, щипал струны гитары и потихоньку, но с чувством напевал:
Бессонные ночи, разгул и виноВсе тело мое отравили.Мне в жизни теперь остается одно:Надеюсь на отдых в моги-и-ле…Вера поинтересовалась:
– Леночка, какие нынче в Москве цены на базаре?
– Три шкуры дерут! За фунт мерзлой баранины просят синенькую.
(Заметим, что исконные москвичи почти никогда не называли денежную цифру. У бумажки каждого достоинства было свое прозвище: один рубль – целковый, целковик; три рубля – зелененькая; пятерка – синенькая; десять рублей – червонец, красненькая; сто рублей – катюша, по портрету Екатерины II, на ассигнации изображенной, и т. д.)
Вера, несколько отставшая от московского быта, охнула:
– Чистый разбой! Давно ли за крупную молочную телятину по двугривенному давали!
Елена Андреевна вздохнула:
– За пуд севрюги красненькую платили…
В разговор влезла Саша, умевшая в лавках так бойко торговаться, что едва ли не за половину назначенной цены брала, особенно если продавец был молодым:
– А для чего, барыня, вы повадились на Трубный рынок ездить? Там завсегда лишнего берут. Надо на Немецкий или Леснорядский. Хоть и дальше, зато много дешевле.
В другом углу гостиной Бунин горячо доказывал Николаю Дмитриевичу:
– Почему большевики так легко одолели Временное правительство? Ведь у них силы настоящей нет, да и мужику по сердцу не их декларации, а лозунги эсеров.
– Ну, большевики в Петрограде – калифы на час…
– Может, и так! Но ведь сумели же захватить власть в Северной столице! Стоило большевикам топнуть сапогом – и Временное правительство разбежалось.
– Временных давно надо было турнуть! – с важностью уронил Андрей Николаевич, вешая на стену гитару.
– Ты бы, сынок, помолчал! – сурово оборвала его Елена Андреевна. – Не лезь в разговор старших.
– Андрей прав! – поддержал гимназиста Бунин. – Это правительство никуда не годилось. Кто там царил? Чернов – министр земледелия! Да он прясло от бороны не отличит. Ну, сменил его Шингарев. По образованию – врач, по устремлениям – журналист. Прославился тем, что постоянно влезал на думскую трибуну – лишь бы трещать как сорока. И вот он-то «мудро руководил» сельским хозяйством России…
– Ян, о чем говорить, если и Шингаревым, и Некрасовым, и князем Львовым – всем Временным правительством командует этот кривляка – присяжный поверенный Керенский! – сказала Вера.
– Несчастное существо! – Николай Дмитриевич потеребил свою короткую бородку. – Способности самые ограниченные…
– Зато амбиции Наполеона! – вновь влез в разговор Андрей Николаевич, за что был отлучен от компании взрослых и отправлен обедать на кухню.
Злободневный разговор прервала хозяйка:
– Пожалуйста, к столу!
* * *Пили водку под малосольный астраханский залом – селедку, спинка которой была шириной в ладонь, источала нежный жир и таяла во рту. Дамы предпочли пиво, закусывая его швейцарским сыром и фаршированной колбасой. Андрей Николаевич, смешивший на кухне анекдотами Сашу, по малолетству пива был лишен. Ему по вкусу пришлась солянка из осетрины на сковороде.
Обед был долгим, неспешным, по-старинному сытным. Словно древние стены сообщали его насельникам мудрую степенность. Да и то сказать, стоял дом аж со времен Елизаветы Петровны – с 1747 года, хотя и был несколько перестроен в 1813-м.
Принадлежал он знаменитым купцам-миллионерам Корзинкиным, точнее, одному из их славных представителей – торговцу чаем Андрею Александровичу. Купец был сметлив, честен и удачлив. Повезло Корзинкину даже со смертью – умер он в 1913-м, последнем счастливом году России. Домовладелицей стала его дочь Елена Андреевна. Было ей тогда без малого пятьдесят.
Когда обед был наконец благополучно завершен, хозяйка села за рояль и спела бархатным контральто:
Глядя на луч пурпурного заката,Стояли мы на берегу реки…Бунин с чувством поцеловал ей руку.
– Лена, презентуй Буниным открытку! – подал голос Николай Дмитриевич.
– Какую такую открытку? – оживилась Вера.
Дело в том, что Елена Андреевна в свое время училась в школе живописи. Ее картины охотно брали на выставки, а одну приобрел даже Павел Михайлович Третьяков для своего знаменитого музея. С той картины были напечатаны открытки «Весна». Теперь Елена Андреевна надписала одну из них: «Милому Ивану, которого мы очень любим!»
– Спасибо! – улыбнулся Бунин. – Почти так мне надписывал свои фотографии молодой Шаляпин: «Милому Ване от любящего тебя Шаляпина».
* * *Стали говорить о Федоре Ивановиче, о том, как он сидел за этим роялем и его могучий голос заставлял дрожать подвески на люстрах, а прохожие собирались под окнами. Он был частым гостем и на литературных «Средах», проходивших много лет под крышей радушного дома Телешова. Председательствовал на собраниях общий любимец – Юлий Бунин.
– Мне вспомнилась история другой открытки, ставшей вдруг знаменитой, разошедшейся многотысячным тиражом, – сказал Бунин.
– Там, где ты рядом с Шаляпиным и Горьким? – спросил Николай Дмитриевич.
– И с тобой тоже! Там же Скиталец и Чириков! А случилось это все неожиданно. Сошлись мы на завтрак в ресторане «Альпийская роза», что на Софийке. Завтракали весело и долго. Вдруг Алексей Максимович окает: «Почему бы нам всем не увековечиться? Для истории русской словесности». Я возразил: «Опять сниматься! Все сниматься! Надоело, сплошная собачья свадьба».
Николай Дмитриевич добавил:
– Ты еще поссорился со Скитальцем. Он стал тебе нравоучительно, словно провинциальный учитель, выговаривать: «Почему свадьба? Да еще собачья? Я, к примеру сказать, себя собакой никак не считаю. Не знаю, конечно, как другие!»
Бунин продолжал:
– Я вспылил. Отвечаю жестко Скитальцу: «А как же иначе назвать? По вашим же словам, Россия гибнет, народ якобы пухнет с голоду (хотя пухли только пьяницы). А что в столицах? Ежедневно праздник! То книга выйдет новая, то сборник „Знания“, то премьера в Большом театре, то бенефис в Малом. Курсистки норовят „на вечную память“ пуговицу от фрака Станиславского оторвать или авто Собинова губной помадой измажут-исцелуют. Ну а лихачи мчат в „Стрельну“, к „Яру“, к „Славянскому базару“…» Здесь вмешался в спор Шаляпин: «Браво, правильно! И все-таки, Ваня, айда увековечивать собачью свадьбу! Снимаемся мы часто, да надо же память потомству о себе оставить. А то пел, пел человек, а умер – и крышка ему». Горький поддержал Федора Ивановича…
Забавно окая, Бунин с привычной ловкостью весьма похоже изобразил Алексея Максимовича:
– Конечно, вот писал, писал – околел.
Пошли в ателье, «увековечились». Всемирный почтовый союз отпечатал с этой действительно исторической фотографии открытые письма.
– Эх! – протянул сладко Бунин. – Слава – как очаровательная женщина, так и манит в свои сети. А сколько знаменитостей побывало в вашем доме: Станиславский, Немирович-Данченко, дядя Гиляй, Короленко, Мамин-Сибиряк, Куприн…
– Пожалуй, в середине ноября следует провести очередную «Среду», и организовывать ее будет Юлий Бунин. Пусть зайдет, мы обсудим программу, – сказал на прощание Николай Дмитриевич.
За окном стояла тревожная ночь…
5Иван Алексеевич мало выходил из дому, боясь попасть под случайную пулю.
Но добровольное заточение имело и благую сторону. В эти дни он много записывал в дневник:
«30 октября. Москва, Поварская, 26. Проснулся в восемь – тихо. Показалось, все кончилось. Но через минуту, очень близко – удар из орудия. Минут через десять снова. Потом щелканье кнута – выстрел. И так пошло на весь день. Иногда с час нет орудийных ударов, потом следуют чуть не каждую минуту – раз пять, десять. У Юлия тоже…
Часа в два в лазарет против нас пришел автомобиль – привез двух раненых. Одного я видел, – как его выносили – как мертвый, голова замотана чем-то белым, все в крови и подушка в крови. Потрясло. Ужас, боль, бессильная ярость… Выхода нет! Чуть не весь народ за „социальную революцию“».
Поздним вечером, когда и ходить по улицам стало опасно, кто-то повертел ручку дверного звонка.
Вера осторожно, через цепочку приоткрыла дверь и радостно проговорила:
– Юлий Алексеевич! Приятный сюрприз…
– Пробирался к себе в Староконюшенный, да решил к вам завернуть. Ночного странника чаем напоите?
– Даже водки нальем! – вступил в разговор Иван Алексеевич, вышедший из своей комнаты.
– Не откажусь! У меня новость. Захожу нынче в «Летучую мышь» на спектакль к Никите Балиеву. И вдруг сюрприз: рядом со мной занимает кресло сам… Горький.
Неистощимый на шутки, родоначальник российского конферанса (вместе с элегантным петербуржцем Алексеем Алексеевым), благодаря безграничному веселью и остроумию умевший ловко балансировать на грани рискованного, никогда, однако, не переходя рамки хорошего тона, Никита Федорович еще в 1908 году создал театр-кабаре «Летучая мышь». Его спектакли пользовались неизменным успехом. Любил Балиева и его театр Горький.
– Любопытное известие! – кивнул Бунин. – Да мне-то что от этого?
– Балиев и Горький просили сказать тебе привет, а еще Алексей Максимович добавил: «Очень жажду лицезреть Ивана Алексеевича с супругой завтра на званом обеде. Обязательно приходите!»
– Так не приглашают!
– Утром он сам тебе позвонит.
– А я не пойду к нему. Тем более что завтра я приглашаю тебя, братец, на обед в «Прагу».
Вера наливала в старинную чарку крепкий напиток, изготовленный на заводе знаменитого Н. Л. Шустова.
– Хороша! – крякнул Юлий хрипловатым баском и закусил нежинским огурчиком, крошечным, как детский мизинец, распространявшим дразнящий запах. Потом с аппетитом принялся за гуся, покрытого тонкой розовой корочкой, фаршированного антоновскими яблоками.
* * *Когда Бунин бывал в Москве, он часто заходил в дом 32, что в тихом Староконюшенном переулке. Дом прятался в густом саду, а в боковом флигеле двухэтажного кирпичного дома жил и много творил Юлий.
Дом принадлежал доктору Николаю Михайлову, издателю журнала «Вестник воспитания». Но всю редакторскую работу тянул безотказный и работящий, как крепкая крестьянская лошадка, Юлий. Водрузив на нос очки в тонкой серебряной оправе, он с утра до ночи сидел за громадным письменным столом. Юлий вникал в рукописи, поправлял гранки, отбирал материал для публикаций, пытался разобраться в обилии только что вышедших сочинений – умных и бестолковых, из которых следовало составить рекомендательный список для чтения.
Когда-то, по молодости и неопытности, Юлий путался с народовольцами. Став взрослее, решил сделаться заядлым либералом. Он сочувствовал всяким течениям в политике и литературе, которые считались прогрессивными. Это отразилось и в программе «Вестника», который ставил своей задачей «выяснение вопросов образования и воспитания на основах научной педагогики, в духе общественности, демократизма и свободного развития личности». Выходил «Вестник» девять раз в год, ибо Юлий справедливо считал: в дни летних вакаций учителя, как и редактор журнала, должны от передовой педагогики отдыхать.
С годами к Юлию пришло разочарование – в человечестве. Он все чаще замыкался в своем узком мирке на Староконюшенном. Брату Ивану он признался:
– Идеи меня интересуют куда больше живых людей!
Педагог-теоретик романтично полагал, что «передовые идеи», даже насильно внедренные, могут сделать людей «более счастливыми». Заблуждение, к несчастью человечества, частое.
Из своего затворничества он охотно выходил лишь тогда, когда приезжал брат. Иван Алексеевич вовлекал братца в круговерть светских развлечений: рестораны с цыганками, вечеринки с танцами под граммофон, литературные собрания с жаркими спорами едва не до мордобития, театры с Собиновым и Шаляпиным – вся сия суета приятно разнообразила скучное сидение за статьями, которые мало кто читал.
Юлий восхищался своим знаменитым братом:
– Иван, ты гордость нашей фамилии. Тебя любит слава. Чует сердце, она вознесет тебя выше всех современников…
– Ну, братец, твоя лесть груба, но приятна! Но за что тебя любит моя Вера, убей – не пойму.
* * *Сейчас Вера заботливо суетилась:
– Юлий Алексеевич, про соус не забывайте!
– И перцовкой, братец, не брезгуй! Из магазина Смирнова.
Вдруг страшно ударило за окнами, в шкафу задребезжал хрусталь. Юлий не донес до рта рюмку, задумчиво сказал:
– Снаряд, кажется, на Арбате разорвался. Любопытно знать, что же дальше будет?
Бунин, потягивавший чай, грустно поник головой:
– Ничего хорошего не ожидается. В деревне погромы, в городе стрельба, в Европе война… Как говорит Горький, много смешного, но ничего веселого.
Воцарилось долгое молчание.
– Алексей Максимович, думаю, снова уедет в Италию. Прежде мы гостили у него, почему бы… – начала Вера, но Бунин так взглянул, что она осеклась.
Часы глухо пробили час ночи.
– Пора спать! Юлий, оставайся у нас! – предложил Иван Алексеевич.
– Да, и ограбят, и зарежут – плевое по нынешним временам дело. Теперь преступников даже не ищут. К тому же завтра в полдесятого утра должен быть у Сытина. От вас добираться ближе.
Где-то со стороны Воздвиженки дробно застрочил пулемет, кто-то страшным голосом звал на помощь: «Караул!» Наступал новый день большевистской власти.
6Утром Бунин спал долго. Разбудил его желтый луч солнца, пробившийся сквозь тяжелые, неплотно задвинутые гардины. Он лежал в постели, не отошедший от сна, наполненный безмятежной радостью ожидания чего-то счастливого, давно желаемого. Но вдруг в памяти пробудилось воспоминание действительного положения вещей. Так просыпается в тюремной камере заключенный, приговоренный к смерти и заспавший страшную реальность. И тяжелое чувство с двойной силой придавливает обманную радость.
Юлий успел спозаранку уйти к Сытину на Тверскую. Вера проспала уход Юлия. Бунин выбранил кухарку, не согревшую брату чай, а тот, по деликатности, не потребовал. Зазвонил телефон, Бунин снял трубку, услыхал грудной голос Катерины Павловны Пешковой: