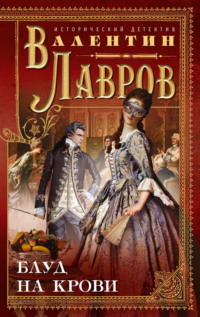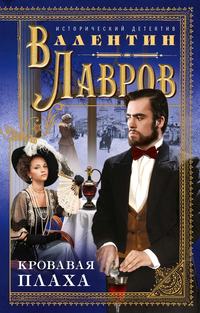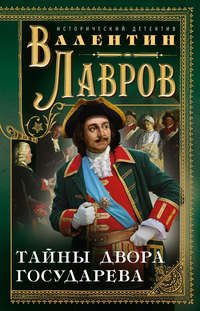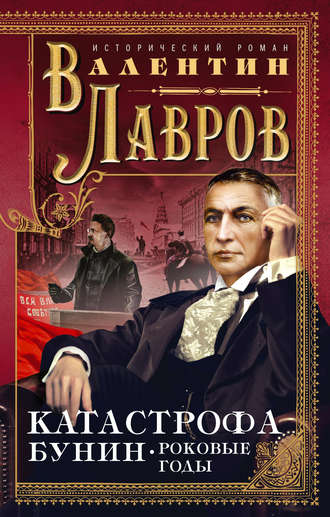
Полная версия
Катастрофа. Бунин. Роковые годы
– При нонешнем времени… К тому же овес дорог, значит, двадцать рублев будет.
Бунин задохнулся:
– Ты хоть Бога побойся, цена твоя ведь несуразная!
– Это уж как прикажете, но дешевле нынче не получается.
Бунин взъярился:
– Доигрались, свергли «ярмо самодержавной деспотии»! Тьфу! – Вздохнул. – Не пешком тащиться, вези.
Извозчик хлопнул вожжами:
– Вот, барин, вы серчать изволите, а я своего крестника Петруню вчера похоронил – прирезали. В четверговый день мы с ним утром вместе выехали, стоим, ждем московского поезда. Подошли какие-то двое, из себя нерусские, смуглые такие. Говорят: «Вэзи к энтенданским складам!» Петруня их повез. Эх, барин, видать, и впрямь лихо споро, приходит скоро. Нашли Петруню на Митрофаньевском кладбище. Задавили его эти самые, смуглые, да в склеп бросили. И нашли-то случайно. А у Петруни старики да трое малых детишек в деревне оставшись.
Бунин посочувствовал:
– Все под Богом ходим!
* * *По Невскому, выбрасывая сизый дым, неслись авто с военными. Тряслись грузовики, набитые людьми в бушлатах и бескозырках. Матросы дружно, словно единая глотка, рявкнули:
Девки бегали по льду,Простудили ерунду.А без этой ерунды —Ни туды и ни сюды!Мужики и бабы, стоя на тротуарах, улыбались и приветливо махали руками. Зато барышни и дамы с гневом отворачивались.
Улицы, прежде такие чистые, были завалены мусором и семечной шелухой. По ним шла, перла, двигалась густая толпа солдатни, люди рабочего вида, наряженная прислуга с господскими детьми. Хотя день был будничный, у всех чувствовалось какое-то неестественно праздничное настроение. На каждом шагу попадались неизвестно откуда возникшие ларьки, лотки, киоски, под ногами путались разносчики товаров и продавцы. Уши закладывало от их нахальных криков:
– Леденец «Ландрин» – что тебе сочный мандарин!
– Манто на меху гагачьем с шелухою рачьей!
– Фото только для мужчин: красотка Нинель в мельчайших подробностях для услаждения взора.
– Кринолины проволочные медные – для любовных утех не вредные!
Бунин, всю зиму сиднем просидевший в Москве, был неприятно поражен громадными очередями, тянувшимися к москательным лавкам, к булочным, к дровяным складам и мучным лабазам. Обыватель стоял за мылом, керосином, спичками, солью, ситцем, калошами, сахаром, дрожжами, мясом, молоком, чаем, селедкой.
Извозчик повернул голову к Бунину:
– Это, барин, нарочно делают, вредят. Всю войну продухты были – стоило копейки, жри до пуза. А с этой зимы – будто сквозь землю провалилось. А почему? Чтоб народ раскалить. Это германские шпиёны делают. И начальство им потакает. Потому как начальство тоже жулье. Для того законного царя и свергли, чтобы самим попользоваться.
В этот момент, бойко долбя в барабан и оглушительно ухая медными трубами, из переулка вывалился вооруженный отряд. Извозчик сдержал лошадь и хрипло, с ненавистью сплюнул:
– Во-во! Вот эти игруны хреновы все и устроили. Воевать они, знамо дело, не желают, а тут под музыку ногами кренделя выписывают, конский навоз месят! – Горько вздохнул: – Попомните мое слово, барин. Нонче народ, как скотина без пастуха. Царь – хороший или плохой, а все помазанник. А теперь, сказывают, какие-то временные. Чего с их возьмешь? Теперь все перегадят, нас и себя погубят.
– Что же делать?
– Делать? Делать уже нечего. Делать надо было прежде, когда только начали фулюганить. Твердую власть держать надо было. А уж нынче – шабаш! Народ наш баломутство любит.
Бунин живо почувствовал, что этот дремучий мужик, за всю свою жизнь, быть может, не державший в руках книги, говорит то, во что боятся верить просвещенные интеллигенты и что неминуемо ждет их всех – «шабаш».
* * *Подъехали к «Европейской». Возле гостиницы стоял грузовик, увешанный красными тряпками. Возле него – праздная толпа. На грузовике размахивал руками узкоплечий человечек в длиннополом засаленном пиджаке. Брызжа слюной, он громко выкрикивал:
– Смерть буржуям, сосущим кровь! Истребить дворян, купцов и фабрикантов – злейших врагов трудового народа! Погромщиков-черносотенцев – к ногтю, как тифозную бактерию! Конец войны с германцем! Погибнем все как один за свободу!
Принимая деньги, мужик кивнул в сторону оратора:
– Этот нехристь воевать не хочет, а я за его слабоду, вишь, погибнуть должен! А на кой ляд мне его слабода, если у меня в деревне три лошади и хозяйство? На ем лишь лапсердак, вот он и надрывается за слабоду.
И с неожиданным остервенением хлестанув лошадь, разламывая надвое толпу, понесся так, словно гнала этого российского мужика тоска и дурные предчувствия.
2В те дни, окруженный восторженными почитателями, льстецами и просто прихлебателями, в Петрограде находился самый, пожалуй, знаменитый и самый богатый из русских писателей Максим Горький. С Буниным его связывала старинная дружба. Более того, в предвоенные годы Иван Алексеевич был частым гостем в Сорренто.
Теперь добрые отношения стали давать трещину. Бунин с брезгливостью относился к увлечениям Горького политикой и особенно порицал поддержку им большевиков.
Но Горький задумал напечатать десятитомник Ивана Алексеевича. Вот и следовало обсудить это дело с Зиновием Гржебиным, ведавшим делами издательства «Парус».
Когда-то, еще в 1906 году, в другом горьковском издательстве – «Знание», размещавшемся в доме 92 по Невскому проспекту, вышел первый сборник из серии «Дешевой библиотеки». Естественно, что это были творения самого мэтра – «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике» и «Легенда о Марко». Объявили первые сто книг, которые готовило издательство.
Бунин носил в кармане только что отпечатанную книжечку и, весело улыбаясь, показывал при каждом удобном случае:
– Из ста книг «всего лишь» тридцать пять самого Алексея Максимовича! Завидная скромность.
– А кто остальные авторы? – любопытствовали собеседники.
– Огласим список блестящих авторов, так сказать, лучших из лучших! – произносил Бунин с уморительным видом. – Тех, кто составляет цвет современной литературы. Итак, Максим Горький – тридцать пять книг, затем… – Он поднимал на слушающих глаза. – Как думаете, кто следующий? Сам великий гусляр – Скиталец, в миру Петров.
Заметим, что Скиталец знал Горького еще с 1897 года. Познакомился с Алексеем Максимовичем в Самаре, находился с ним в переписке. В 1900 году жил недели полторы у того в каком-то сельце Мануйловка, на Харьковщине, о чем всю последующую жизнь вспоминал с особым удовольствием и что дало ему повод называть себя «учеником» Горького.
Скиталец действительно возил за собой гусли, на которых порой что-то пытался наигрывать, напуская на себя раздумчивый вид. Еще Скиталец почему-то считался лучшим другом Шаляпина.
– Сборники у нашего гусляра самые злободневные, – продолжал Бунин. – Вот, послушайте их названия: «Сквозь строй», «За тюремной стеной», «Полевой суд»… Ну прямо слезу вышибает!
– А кто еще?
– Еще Леонид Андреев, Гусев-Оренбургский, Серафимович – чохом на всех почти три десятка книг. Недурно! А вот у Семена Юшкевича всего лишь шесть книжек.
– А сколько у вас, Иван Алексеевич?
– Меня, Куприна и Бальмонта «Знание» осчастливило по одной книжечке. Спасибо Алексею Максимовичу за внимание к нашим никому не нужным персонам. Где нам до Скитальца! Мы ведь даже на гуслях бренчать не научились.
* * *И вот теперь, подходя к издательству «Парус», Бунин возле входа столкнулся с Горьким, выходившим с толпой приближенных. Швейцар почтительно обнажил перед Алексеем Максимовичем лысую голову, сдернув с нее обшитую золотым галуном фуражку.
Горький, высокий, несколько сутулый, увидав старого друга, радостно прогудел, заокал:
– Кого вижу: в Питере сам Бунин! Почему не звоните, почему не заходите, Иван Алексеевич?
– Я только что с дороги. Да и вы, Алексей Максимович, человек занятой, все политикой увлекаетесь…
Горький примиряюще сказал:
– Почто нам пикироваться? В честь Финляндии организовали бо-ольшое торжество. Открываем выставку, потом банкет. Вот, приглашаю вас.
– Все гении, поди, соберутся? – не без ехидства произнес Бунин.
Горький недовольно свел рыжеватые брови, из-под которых глядели зеленые уклончивые глаза, крякнул, прокашлялся и мягко возразил:
– Какие там гении! Скромные служители культуры…
Бунин, усмехнувшись, продолжил:
– А как же! Это прежде у нас гении были наперечет – Пушкин, Лермонтов, Толстой… Теперь же гений косяком попер: гений Мережковский, гений Брюсов, гений Блок, гений Северянин!
Он чуть не выпалил «гений Горький», но удержался. Алексей Максимович покачал головой, что-то неопределенно хмыкнул, а Бунин запальчиво продолжал:
– Урожай гениев! И взращивает этот урожай толпа. Литература ведь нынче не мыслит себя без улицы. А улица, толпа никогда меры не знает, она страшно неумеренна в своих похвалах. Вот она и провозглашает своих «гениев».
Горький промолчал, потом положил большую руку на плечо Бунина:
– Пошлого в этом мире много. Но не все так плохо, право. Вы, как обычно, в «Европейской»? У меня автомобиль, так я за вами заеду. Как на ковре-самолете домчимся. Не банкет, лукуллов пир обещают. Все будут рады вам, Иван Алексеевич. – Он встрепенулся: – Прощайте, дела ждут!
На этом диалог был окончен. Горький еще раз крепко обнял Ивана Алексеевича, прижался жесткой щеткой усов к его щеке, дыхнул на него запахом дорогого табака, уселся в лаковое авто, фырчавшее у подъезда, и быстро покатил.
3И все произошло так, как обещал Алексей Максимович. Был автомобиль, была выставка, был лукуллов пир. И съехались на него все те, кого газетчики давно с пышной безвкусицей называли «цветом русской интеллигенции».
Собравшиеся оказались самыми различными людьми – и по возрасту, и по своему положению. Здоровые, сытые, самоуверенные мужчины в великолепных фраках, благоухающие французским одеколоном. И тут же дряхлая размалеванная старуха со вставной, выпадающей при разговоре челюстью и клочками седых волос на мертвенном черепе, приобщившаяся к культуре едва ли не во времена Гоголя. Кроме того, в зал набились знаменитые и вовсе неизвестные, молодые и старые писатели, актеры, художники, кто-то из министров Временного правительства, иностранные дипломаты, посол Франции.
В центре внимания были Горький и гремевший в то время финский художник Галлен. Все толпились вокруг них, перебивая друг друга и не слушая ответов, без конца задавали им вопросы о политике, об Учредительном собрании, о делах на фронте и, конечно, вечное – «о творческих планах».
Горький устало улыбнулся, почесал утиный нос с широкими ноздрями и в веснушках, указал широкой, с желтыми от частого курения ногтями рукой на стол:
– У нас всех первоочередная задача – отведать сих даров полей, лесов и рек… Иван Алексеевич, пожалуйста, садитесь поближе. – И он усадил Бунина между собой и Галленом.
Засуетились официанты, заскрипели стулья, тонко зазвенел хрусталь. Горький поднялся во весь свой долгий рост, выждал паузу, провозгласил:
– Буду краток. Самое дорогое на свете – дружба. Дружба, сердечные отношения как между людьми, так и между государствами. С чудесной Финляндией и ее прекрасным народом Россию связывает давняя искренняя приязнь. Пьем за эту дружбу, за нашего северного соседа.
Раздались аплодисменты, крики «ура!», звуки сдвигаемых бокалов – все с аппетитом выпили. На несколько минут воцарилось напряженное молчание: цвет интеллигенции тщательно пережевывал закуску.
Заглатывая жирный кусок лососины и салфеткой приводя в порядок розовые уста, встал с бокалом Мережковский.
– Пр-рошу слова! – пророкотал Дмитрий Сергеевич, сладко улыбнувшись и заранее предчувствуя наслаждение от тех умных и возвышенных слов, которые он сейчас произнесет.
Из года в год Мережковский выпускал толстенные книги, в которых было много взволнованного многословия, вычурных словесных оборотов, претензий на особую, якобы только ему одному доступную мудрость. И он убедил не только себя, но и многочисленных своих почитателей, что является неким мессией, бичующим пороки и открывающим человечеству дорогу в прекрасное будущее.
– Милостивые государ-рыни, милостивые государи! Мой взор улавливает горячий блеск ваших глаз, и ваш внешний вид ясно говорит о том божественном вдохновении, которое вы все испытываете, а я вместе с вами!
Мережковский стал похож на свадебного генерала, за четвертной билет произносящего загодя вытверженные речи.
– Но в отличие от нашего уважаемого мэтра, – Мережковский шаркнул ножкой в направлении Горького, – я не осмелился бы предлагать пить за «дружбу с северным соседом».
Мережковский по-актерски то понижал голос, то вдруг возвышал чуть не до верхнего «си»:
– Нет, непозволительно забывать, что эта самая «дружба» возникла в результате русско-шведской междоусобицы. Вспомним 1809 год. Русский тиран, сатрап с ангельским ликом – Александр I злодейски захватил красавицу Финляндию.
Вера Фигнер, сидевшая на другом конце стола, обнажив щербатый рот, визгливо прощебетала:
– Ах, прекрасно! Наш златоуст прав: это не дружба, это насилие!
– Да пошлите вы к черту эту Богом забытую Россию! – повернулась к Галлену жена Мережковского, поэтесса Зинаида Гиппиус. – Россия идет ко дну, только слепой этого не видит. Зачем вам такая компания?
Мережковский, вдруг игриво улыбнувшись, переменил тон:
– Осушим наши бокалы с прекрасным французским напитком в русском доме за скорейшее освобождение Финляндии от российского деспотизма. Ура!
– Правильно! Ура! – раздались голоса за столом. – Пьем за финскую свободу! Долой российскую экспансию!
Горький недоуменно озирался вокруг. Бунин, не желая поддерживать такой тост, демонстративно отодвинул от себя бокал. Министры, художники, поэты лобызались с финнами, поздравляли их с «зарей свободы», с «избавлением от деспотизма», нервно вскрикивали:
– Пусть озарит вас солнце свободы! Будь проклят русский деспотизм!
Бунин глядел в окно, видел внизу Марсово поле, недавно кощунственно превращенное в кладбище, и ему становилось страшно от того позорища, на котором он присутствовал.
Наконец он не выдержал, резко поднялся. Сразу стихло. Мережковский перестал жевать, Фигнер раскрыла щербатый рот.
– У меня сейчас такое ощущение, что я сижу не в кругу соотечественников, а в каком-то враждебном России государстве, – жестко произнес Бунин. – Разве не нас воспитала Россия? Разве не ее великий народ дал нам возможность печатать книги, устраивать выставки, разъезжать по лучшим курортам мира? Так кого мы хаем? Каких черных воронов зовем на свою голову? Если вспомнить историю, так надо весь мир разбить по мелким клочкам, Америку вообще закрыть. Да и то место, которое зовется Петербург и где сейчас Дмитрий Сергеевич аппетитно закусывает, к России отошло всего два с небольшим столетия назад. Что, нам отсюда бежать надо? И Черное море с югом России бросить на произвол судьбы? Дурная логика, господа! Что предлагается сделать из России? Великое княжество Московское? Провести границы княжествам Владимирскому, Киевскому, Новгородскому? Чтобы нас поодиночке били? Конечно, финны – народ замечательный, талантливый. Но именно с Россией расцвела его культура, народ стал жить богаче. И никогда русские не давили ни финнов, ни кого другого.
Бунин гневно блеснул глазами, перевел дыхание.
– Мы, русские, всегда давали другим нациям куда больше, чем брали себе. И речь идет не только о нашей культуре, не имеющей себе равных в мире. Не мы за заработками на чужбину ходим, к нам испокон веку французы да немцы в услужение идут. Так выпьем за то, чтобы Русь оставалась великой и могущественной!
Бунин осушил бокал.
После некоторого молчания вдруг раздались дружные аплодисменты, крики: «Да здравствует Россия! Слава великой родине!»
В этот момент, к всеобщему великому изумлению, к Горькому и Бунину без приглашения подошел молодой долговязый поэт по фамилии Маяковский. Он, выдвинув между ними стул, стал есть с их тарелок, пить из их бокалов. Горький расхохотался, Галлен вытаращил глаза, Бунин брезгливо отодвинулся.
Маяковский это заметил и весело спросил:
– Вы меня очень ненавидите?
– Отнюдь нет, это было бы для вас слишком высокой честью.
Маяковский поднялся, ухмыльнулся и, вихляя задом, удалился. Вскоре Иван Алексеевич стал прощаться с Горьким.
– Мне надо идти. – Помолчал, добавил: – Да и стыдно жрать здесь икру, когда очереди стоят за хлебом.
…В октябре семнадцатого года выборы в парламент Финляндии дадут большинство буржуазным партиям. 6 декабря парламент провозгласит независимость. 31 декабря Ленин и Сталин поставят подписи под декретом Совета Народных Комиссаров, признавшим эту самую независимость.
4Наступила Пасха. Стояли чудные дни, полные тепла и света. Деревья выбросили свежую листву, на газонах пробилась первая робкая травка.
В окопах все еще находились в счастливой эйфории, не успевшей выветриться после отречения Николая II. Флаги Российской империи сменили красные полотнища. Повсюду сыскались охотники, без устали малевавшие лозунги: «Да здравствует демократическая республика!», «Да здравствуют свободные народ и армия!», «За всеобщее равенство!», «Да здравствует свободная Россия!».
Российские солдатушки с постыдной заботливостью снабжали германцев хлебом, в ответ получали расчески и непристойные фото.
На пасхальные дни по давней традиции на передовую завезли яйца. Для офицеров их красили вручную – умельцы изображали буквы «ХВ», для рядовых – в кастрюлях с луковой шелухой.
И повсюду – митинги, митинги… Война сама собой отходила куда-то на второй план. Катастрофически увеличивалось количество дезертиров. Митинговать – не воевать!
Бунин, оказавшийся в Петрограде, метался, как зверь во время лесного пожара. Теперь он решил ехать в имение родственников, что в Елецком уезде, – Глотово.
На душе было тяжело. Давило предчувствие, что он последний раз видит Северную столицу. Перед отъездом зашел в Петропавловский собор.
Все было настежь: и соборные двери, и крепостные ворота. Иван Алексеевич в молитвенном порыве опустился на колени перед образом Спасителя. Для себя он ничего не просил. Лишь сухие уста жарко шептали: «Господи, спаси и сохрани Россию, не допусти, чтоб пришлые лиходеи разорили ее!»
Но, видать, не внял Господь молитвам.
Прогрессивные тупицы
1Деревенскому дому было полтора века. Бунина умилял простой сельский быт, неспешный ход жизни, трогала мысль, что стены его дома хранят тепло дыхания тех, кто был здесь некогда хозяевами. Они оглашали его стены родовым криком, учились произносить первые слова; радовались солнцу, ласкам матери, вниманию отца; росли, заходились в холодке первого поцелуя, старились, умирали. Они исчезли навек, чтобы стать для живущих только мечтою, какими-то как будто особыми людьми старины.
И вот смутные образы этих навсегда ушедших в мировую провальную неизвестность предков очень были дороги Бунину, волновали его очарованием прошлого.
Бунин вышел в сад. Набежал шелковисто-нежный ветер. Над головой зашумела, закачалась древесная зелень, пестро замелькала, обнажая знойно-эмалевое небо.
Он жадно вглядывался в даль, в синеющий на горизонте вал леса, в нежную изумрудность озимых, в фантастические картины облаков и думал: «Господи, да ведь все это было таким же и сто лет назад, и во времена Ивана Грозного. Спасибо Тебе, Создатель, за то, что Ты послал меня на эту прекрасную землю. Как я люблю это бледное небо, эти бескрайние просторы, которые зовутся Русью! – Он осенил себя крестным знамением. – Странно, что прежде я куда-то стремился, изъездил весь лик планеты, а ведь счастье было здесь, совсем рядом».
* * *Лето быстро набирало силу, все гуще делалась зелень, все более жаркими стояли полдни. Но в этом земном очаровании больше не было ни тишины, ни мира. Беспорядки перекинулись из города в деревню, приобрели дикий разгул и бессмысленную жестокость.
Под утро 24 мая Иван Алексеевич был разбужен шумом и криками. Встревоженный, он выглянул в распахнутое окно. Слева, на взгорке, нервно колыхалось пламя, горько тянуло дымом.
На ходу надевая одежду, Бунин выскочил во двор. Горело гумно, пламя перекинулось на две риги, и их тут же слизнуло жарким языком пожара. Чуть позже, когда светало, вспыхнула изба, стоявшая в одиночестве, в километре от Глотова. Уже в полдень загорелся скотный двор в усадьбе ближайшего соседа Бунина, арендатора.
Зажигателя поймали. Им оказался мужик, имевший с соседом в давние времена судебное дело. Поговорив малость с зажигателем, мужики его отпустили, а почему-то схватили пострадавшего. Они повалили в дорожную пыль арендатора – молодого сухопарого человека, – били его ногами и черенком от лопаты, азартно вскрикивая:
– Сам небось поджег, ишь, какой подлец! Дай-ка врежу ему по ребрам, а теперь по толстой ряшке. Ишь, паразит, за наш счет нажрал, буржуй проклятый! Вот тебе, вот…
Этот арендатор приехал из Ельца, работал как приговоренный – от зари и до зари – и тем самым вызывал зависть и злобу местных бездельников.
Бунин растолкал озверевших мужиков, возмутился:
– Что вы делаете? За что вы его бьете? На каторгу захотели?
Решительный и воинственный вид Ивана Алексеевича заставил мужиков остановиться. Погорелец не в силах был подняться с земли, он громко стонал, его лицо было разбито в кровь. Кто-то буркнул:
– И то, чего мы навалились? Пошли по домам…
Вдруг из толпы выскочил какой-то солдат с бритой головой, видимо дезертир, в изношенной шинели и в старых, сбившихся сапогах. Он почти в упор подошел к Бунину, обдал его запахом перегара и табака. С дурной ухмылкой выдохнул:
– А ты, барин, чего тут путаешься? Своего брата буржуя защищаешь?
Какая-то баба в богатом вечернем платье, с золотым по вороту шитьем, явно с барского плеча, ткнула пальцем в Бунина:
– Он тут, поди, первый кровосос!
Бунин брезгливо отступил на шаг и, не умеряя пыла, кричал мужикам:
– Ведь он не помещик, он землю арендует. Работает не меньше вашего. Какой же смысл ему жечь усадьбу?
Солдат, вертя яйцевидной головой, продолжал наступать:
– Ты, барин, про кинситуцию слыхал? Это такой указ вышел, чтобы всех кровососов помещиков перевести. Ты тоже буржуй. Тебя следует предать пролетарскому суду и незамедля в огонь положить… Нам за это награду дадут, на выпивку.
– Чего стоите, швыряйте его в огонь! – сиплым сифилитичным голосом деловито поддержала баба. – Делов-то! – Она протянула руки с короткими грязными пальцами.
Бунин тут же бы полетел в огонь, если б за него не вступился кто-то из сельчан:
– Не надо! Мы барина в Учредительное собрание выберем. Пусть он там за нас пролазывает.
Бормоча ругательства, баба и солдат с неудовольствием отступили.
«И случись еще пожар – а ведь он может быть, – могут и дом зажечь, лишь бы поскорей выжить нашего брата отовсюду, могут и в огонь бросить», – записал Бунин в дневник.
Вот уж точно – «из искры возгорится пламя». Вся богатая и прежде счастливая Россия уже полыхала пламенем бунтов и грабежей.
2Брат Евгений ездил в Елец. Там он раздобыл изрядно зачитанные, с маслеными подтеками и рваными углами номера газеты «Речь», «Русское слово», «Орловский вестник».
Иван Алексеевич жадно ухватился за чтение. Он увлек брата в тихий угол сада, удобно разместился на широкой, источенной дождем и солнцем скамейке, страстно заговорил:
– Нет, Евгений, не уверяй меня в обратном – мир сошел с ума! Ты только послушай, что делается, – убийства, грабежи, поджоги…
Брат иронично улыбнулся:
– Мир никогда нормальным и не был. Вся его история – это история душевнобольного.
Иван Алексеевич досадливо поморщился:
– Ну, положим, до тебя это Герцен хорошо объяснил. И разве до шуток в такое страшное время! Вот видишь, сообщают в газете цифру погибших во время демонстрации четвертого июля в Питере – пятьдесят шесть человек. Это только представить надо… А сколько покалеченных!
Евгений продолжал пикироваться:
– Кто посылал их на улицу? Сидели бы дома, пили чай из самовара. И никаких не было бы жертв. Так-то!
Иван Алексеевич промолчал.
– Вижу, не желаешь обсуждать, – не унимался Евгений. – А ведь в споре рождается истина.
– Не истина, но глупость – это точно! – отмахнулся Бунин. – Каждый несет свое, собеседника не слушает – вот ваши споры.
– Не буду мешать, мне идти надо в соседнюю деревню!
* * *Газеты с тревогой сообщали, что «большевики проводят среди войск зловредную агитацию, саботируют подвоз продовольствия в крупные города, чем вызывают голод и недовольство населения», что «распропагандированные части Петроградского гарнизона отказались отправиться на передовые позиции».
Назывались имена главных виновных: член ЦК большевиков Зиновьев (Радомысльский), с замысловатым именем Овсей Гершон Аронов, и руководитель этой партии, германский агент Ульянов-Ленин Владимир Ильич.