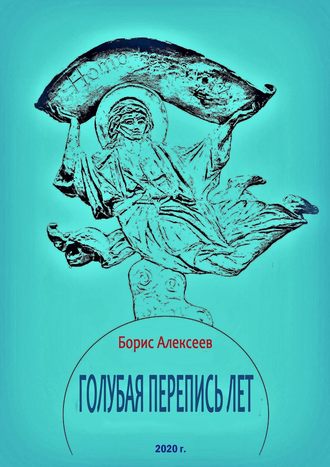
Полная версия
Голубая перепись лет

Голубая перепись лет
Борис Алексеев
© Борис Алексеев, 2020
ISBN 978-5-4498-1099-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие

Марина Алексеева «Бокал с цветами»
Милый читатель, ты раскрыл голубую книгу необычной человеческой жизни. Почему автор употребил эпитет «голубая», с какой стати обращается на «ты», хотя ваше литературное знакомство ещё так мимолётно, и чем именно объявленная житейская «необычность» необычнее всякой другой жизни, единственной в своём роде? Постараюсь ответить.
Человек, биография которого рассыпана по страницам этой книги, родился в далёкие послевоенные (пятидесятые) годы прошлого века. Его жизнь длилась долго и непросто. Кто-то скажет: «Простых судеб не бывает!» И будет прав.
Когда судьба нам кажется излишне простой и прямолинейной, мы лукавим и в бессилии собственного духа видим лишь недополученную от Бога справедливость. А ведь большинство внутренних немощей – это прежде всего слабый выбор нашей свободной воли. И Бог тут, конечно, ни при чём.
– Вы хотите сказать, что житейские испытания Бог назначает человеку по его силам? – спросит читатель. – А как же случаи суицидов? Разве Всевышний может ошибаться?
Вновь звучит тема недополученной справедливости – на этот раз Бог неправильно задал параметр! Но так ли это? На вопрос читателя есть и другой ответ: человек сам не принял божественного назначения и добровольно отказался от него. Так решила его свободная воля.
В биографии Венедикта, главного героя нашей книги, были моменты, когда огненным напряжением сил он отстаивал своё право на продолжение жизни вопреки всем пагубным обстоятельствам. И вечный вопрос «Быть или не быть?» его свободная воля решала коротко и ясно – «Быть!»
Даже в самых безвыходных ситуациях Венедикт, как лягушка, оказавшаяся в крынке с молоком, выбирал лучезарный глагол «быть» и упрямо шёл вперёд. Смело, а порой и безрассудно он наступал на болотистые кочки собственного будущего. Вперёд его вела гипертрофированная интуиция смельчака – основа всякого высокого действия.
Конечно, интуиция – не гарантия победы. Наполеон, человек, наделённый огромной пространственной интуицией, был сокрушён накопительным методом аналитика Кутузова. А вот смельчак Суворов – ярчайший пример победоносной интуиции на все времена!
Кто-то скажет: «Интуиция – не что иное, как тончайший „нано-расчёт“ на уровне подсознания». Возможно. Но это возражение ничто не меняет в нашем определении интуиции как «знании о будущем, не вытекающем из очевидных представлений о настоящем».
Мы высекаем собственную биографию из окружающего нас житейского материала. И если при этом не раздаётся пушечная канонада или не слышен ратный крик «Ура!», вовсе не означает, что нам назначена мирная биография. За право распоряжаться любящим человеческим сердцем идёт непрерывное сражение двух антагонистов – добра и зла. И наша свободная воля – главный засадный полк в этом сражении. На чьей стороне он вступит в сражение и решит в конце концов – кто из двух поединщиков одержит победу.
Во всякой биографии есть место подвигу. Ощутить героику будней совсем не сложно. В советское время о подвиге нам твердили с детского сада. Окрылённые надеждой на личную встречу с героическим началом, мы выжигали фонариком глаза, читая после отбоя под одеялом приключенческие романы. Одни из нас, как пел Владимир Высоцкий, из напильников делали ножи, другие – из кусков картона и тонких, как спицы, реек – планеры и будущие межпланетные звездолёты.
Конечно, если вечером после работы подкачать себя пивком, прийти домой и, завернувшись в газету, прилечь на диван перед телевизором, отложив сражение с обстоятельствами до следующего дня, житейский асфальт, скорее всего, сохранит своё идеальное покрытие, и ни одна травинка не вскроет его оплавленную поверхность. А Бог, который всегда рядом, «горестно вздохнёт», глядя на наше душевное безделье, и, как солнце в ненастную погоду, скроется из вида – только Его и видели…
Пока в нас бурлит некая таинственная неудовлетворённость, мы должны настойчиво искать своё место за флажками размеренного быта. Очень странного быта! Как зонтик безопасности, его раскрыла над нами однообразная и очень разумная взрослая жизнь.
И вообще, разве это жизнь? Разве для этого мы ждём собственное рождение долгие девять месяцев?
Нет же!
И пока не закончились наши первородные силы, надо что-то изменить, дать решительный бой сытым привилегиям размеренного быта. Бой необходим. Только в бою мы можем совершить подвиг и в миг соприкосновения жизни со смертью надышаться свободой на всю оставшуюся жизнь, даже если жить осталось всего мгновенье.
Однако хватит жонглировать словами. Пора заняться собственно книгой и её главным героем Венедиктом Сифовичем Аристовым.
С биографической точки зрения жизнь Венедикта сложилась весьма удачно и прошла по особой милости Творца под голубым мирным небом. Случай, прямо скажем, для русской биографии нетипичный. Он не замёрз в пути, не утонул в пруду, ни разу не сел в падающий самолёт или теряющую управление машину. Господь предупредительно отводил Венедикта от житейских ям и искушений плоти. Правда, однажды Всевышний попустил-таки искушение – загремел Веня в тюрьму на долгие четыре года. Что ж, видимо, не было иной возможности вразумить его слишком широкую натуру. Но во всём остальном наш герой неизменно оставался баловнем судьбы и беспечным счастливчиком.
Однако его житейское везение далеко не всем было обязано благорасположению неба. С юношеских лет свободная воля понуждала Венедикта к непрерывному поиску истины и смысла жизни. Ради этого он шёл на жертвы, лишения и безусловные «революционные» изменения линии жизни. Легко догадаться, при свержении устоявшегося миропонимания на противоположное, Венедикт оказывался одновременно победителем и жертвой своего очередного беспокойного замысла. Но что самое замечательное, всякий раз, одолев инерцию разворота, он обретал силу и оказывался победителем в новом пространстве, созданном по его собственным умозрительным «чертежам и координатам». А победителей, как известно, не судят.
Следует сказать, что действие, в котором мы непосредственно участвуем, всегда поначалу кажется нам архизначительным. Однако со временем оно теряет свою сакральную значимость и рассыпается на мелкую рябь событий, подобно морскому бризу, бегущему по поверхности глубин. И если мы, увлечённые игрой волн, перестанем вглядываемся в чернеющие житейские глубины, все наши духовные упражнения и поиски смыслов станут похожи на вереницу эффектных фраз и придурковатые записи мудреца-графомана.
Когда читаешь «Один день Ивана Денисовича» или лагерные рассказы Шаламова, кровь стынет в жилах от глухого рыка. Это рык тех самых глубин, незаметных за внешним благополучием мирной жизни. Лагерная тема открывает для нас совершенно неизвестный «фарватер» человеческих судеб. Марианские впадины нечеловеческого безразличия и зла, которые выписывают перед нами эти элитные «океанические картографы», разят ум и сердце. Мы не готовы ни осмыслить, ни принять их как свершившийся факт нашей истории. Ведь если такое было в прошлом, значит, подобное может с той же степенью вероятности, вернее, невероятности случиться и в будущем!
В капле воды отражается сущность океана. В причудливых рельефах глубинного фарватера слышится «эхо» человеческих потрясений. Чувствительным и точным литературным эхолотом был Антон Чехов. Старик Хэм обожал выстукивать на своей любимой печатной машинке «Corona 3» скупые пиктограммы человеческих поступков, напрягая внимание читателя намеренной недосказанностью, за которую он (то-то мудрец!) прятал главные причинно-следственные связи.
Поэтому приступая к пересказу очередной (нет-нет, вовсе не очередной – особенной!) человеческой жизни, автор очень надеется, что намеченное житейское путешествие доставит не только интеллектуальное удовольствие, на которое в равной мере рассчитывают и писатель, и его читатель, но преподнесёт двум литературным собеседникам плод их совместных раздумий о главном назначении человеческой жизни – воспитании божественной любви друг к другу.
Глава 1. Как теннисный мячик в руках обстоятельств
Пролог
Он умирал медленно и спокойно. Онемение, прорастающее в распадок огромного страдающего тела, не пугало, но было по-своему приятно. Оно зазывало органы жизнедеятельности окунуться в нежную прохладу первых касаний смерти и насладиться ими. Умирание собственного тела человек наблюдал как бы со стороны. Его здравствующее сознание ещё не пошатнуло нарастающее кислородное голодание, и мозг не принял последнего в своей жизни решения – провалиться в безликую яму небытия.
Человек лежал на спине, чуть искривив в улыбке рот, и припоминал долгую прожитую жизнь.
Подобно большим неторопливым птицам, воспоминания поднимались над умирающим телом и разлетались во все стороны сквозь облупившуюся дранку потолка. Где-то там наверху они ластились к голубым склонам огромной светящейся полусферы, окружавшей комнату, в которой с каждой минутой всё более ощущалось присутствие смерти.
Говорят, привычка – вторая натура, милостью неба данная нам взамен ожидаемого счастья. Привычка мыслить, постоянно тревожить рассудок той или иной идеей – великое благо. Увлечённые потоком мыслей, мы не замечаем, как день ото дня всё более немеет и портится наше тело.
Так и теперь, вместо того, чтобы оплакивать приближение телесной смерти, думы человека орлили в стратосферах, осматривая вершины, достигнутые и не достигнутые в этой жизни.
«Поорлив», они теряли высоту и над самой землёй разлетались по прожитым десятилетиям, о которых никто из ныне живущих людей ничего не знает или уже не помнит.
Но помнит он. Там остались следочки, его следочки. Они реально существуют, пока он жив. Неужели смерть вычеркнет и их? Разве можно прошлое изменить? Выходит, можно…
Через полчаса смерть одолела пограничный рубеж и теперь с благородством римского колониста устанавливала свои холодные порядки. Да, дружище, твоя славная Троя пала – это факт. Сейчас остановится сердце, и под искрящимися биографическими обломками исчезнет последняя ниточка, за которую ещё можно потянуть и, обманув на время смерть, передать потомкам драгоценный трепет твоей уходящей жизни.
Но главное – передать память о Трое, которая могла бы уберечь новое человеческое племя от ошибок юности. Ведь оно наверняка совершит их, рассчитывая жить вечно и оттого пренебрегая долгой и при этом очень короткой жизнью.
Часть 1. Странная периодичность
Великому Родену повезло с учителем. Француз Эдуард Лантери оказался достойной педагогической оправой, из которой выпорхнул в индивидуальное творчество гениальный Огюст. Господину Лантери принадлежат слова: «Счастлив тот, кто открыл себя рано, у него есть шанс стать великим художником».
Увы, эти замечательные слова неприменимы к биографии главного героя нашей голубой летописи Венедикта Сифовича Аристова.
Лет двадцать пять назад Венедикт отметил своё пятидесятилетие. И теперь на пороге без четверти векового юбилея мысли о прожитой жизни и недорастраченной сердечной любви частенько тревожили его благородный ум и отзывчивую душу.
Родился Венечка (так звали Венедикта родители) человеком крайне эмоциональным и в то же время стеснительным. Если гнев, досада и прочие лихоимства выплёскивались наружу прямиком из нервической сущности подростка, то доброта и душевная отзывчивость с великим трудом продирались через его гипертрофированную стеснительность. Оттого свои лучшие качества Веня проявлял с опозданием и, как могло показаться со стороны, с неохотой.
Уклад Аристовых был прост. Распорядок дня начинался и заканчивался обыкновенно. Достатка, позволяющего разнообразить, как теперь говорят, семейную «потребительскую корзину», Аристовы не имели. С одной стороны, их скромный бюджет был следствием житейского, так сказать, нестяжательства. С другой стороны, на последних поколениях родового древа Аристовых природа откровенно отдыхала.
Не имея ни талантов, ни карьерного трудолюбия, Аристов-старший не ждал, да и не жаждал от родственников какой бы то ни было семейной поддержки.
И всё же генетическая лаборатория Бога – «организация» справедливая. Время от времени она балует нас удивительными чудесами. Так накопившаяся невыразительность многих пра-пра-родителей встрепенулась в Венечке ярчайшим личностным потенциалом. Казалось, всё недополученное от природы прежними Аристовыми, Главный инженер лаборатории «запихнул» в четыре килограмма рождественского пирога с восхитительным вензелем «Венедиктос»!
Как же эти четыре килограмма (то вместе, то порознь) кричали, оглашая старенький роддом вестью о явлении в мир новой человеческой твари! «Экая птица говорливая ваш Венечка! – смеялась дежурная сестра, передавая малыша на руки отцу. – Птицы свободу любят. Вы уж птаху не невольте».
Время подтвердило слова доброй женщины. С ранних лет Венечка рос ребёнком особенным. Чурался доблестных детских игр послевоенного времени и в то же время воспринимал пространство, отведённое ему для жизни, как некую сказку, где повсюду за нагромождением привычного таится что-то необыкновенное.
Его воспалённая фантазия наделяла видимый мир особым таинственным содержанием. Оттого мальчик всё время испытывал внутреннее возбуждение и как бы заранее трепетал перед очередной встречей с неизвестным. Когда ему приходилось выбирать, он предпочитал самое необычное из возможных житейских продолжений, чутьём волчонка «разглядывая» в парадоксальном непременную будущую правду. Например, если случалось на прогулке выпросить у мамы мороженое, Венечка не спешил разворачивать блестящую фольгу, но несколько раз перекладывал эскимо из одной ладони в другую, представляя движение холода в теле как первоначальное прикосновение к лакомству.
С ранних лет начальником жизни маленького Венедикта стало художество. Ребёнок рисовал любым красящим материалом на первой подвернувшейся поверхности. В перечне творений юного гения, помимо собственно рисунков на бумаге, значились расписанные в технике цветных карандашей паспорт отца и пенсионная книжка милой бабушки Зины. И если баба Зина, созерцая гениальные каракули любимого внука, нежно улыбалась, разгоняя по лицу веер причудливых морщинок, то испорченный тот или иной документ отца отражался на «заднем полушарии» Венедикта серией увесистых оплеух.
– Сифочка! – говорила сыну заплаканная баба Зина, глядя, как неотвратимо совершается воля отцовского правосудия. – Не неволь Венечку, он же птица…
При этих словах рука отца повисала в воздухе и через мгновение безвольно падала вниз, как брошенный с кручи камень.
– Да ну вас! – в сердцах говорил он и уходил, хлопнув дверью. А бабушка счастливо обнимала внука и по-птичьи что-то ворковала ему на ушко, зализывая нанесённые отцом раны.
В четвёртом классе Венечка заболел музыкой. Трепет воздушных струй, мерные поскрипывания качающихся на ветру деревьев напоминали ему тактовые деления музыкальной фразы. Музыка окружающего мира звучала в голове ребёнка, как в оркестровой яме. Юный Веня с восторгом вслушивался в самого себя. Его пальцы перебирали в воздухе нотки, как клавиши огромного уличного рояля, стараясь поспеть за некоей музыкальной темой, звучащей помимо его воли.
Отец Венедикта, почтенный Сиф Пересветович, хорошо играл на аккордеоне. До чего же был красив отцовский инструмент. Перламутровые резные панели, расположенные вдоль правой клавиатуры, украшали покатую грудь этого волшебного инструмента. Мехи напоминали мягкую шкурку пумы из сказки о Маугли. Они расползались в стороны, не обронив ни струйки клокочущего в них музыкального варева. Басы левой клавиатуры, полные симфонизма, ластились к мелодии и украшали её нарядные звуки дивной органной полифонией.
Веня, очарованный густым «произношением» перламутрового существа, вскоре стал учиться, естественно, на аккордеониста.
Два года продолжалось феерическое восхождение нового музыкального гения на Олимп нотного стана. «Экселент!» – восхищался его успехами преподаватель Дома культуры железнодорожников добрейший Эдуард Львович. Он с нежностью наблюдал, как его ученик приходил на занятия со своим трёхчетвертным юношеским аккордеончиком. «В успешной семье растёт успешный ребёнок», – радовался Львович, не зная, что семью Аристовых вряд ли можно назвать успешной, и инструмент для Вени куплен матерью в долговую рассрочку по причине развода с отцом и скудного материального положения.
Но вот стрелка на житейских часах обежала два огромных годичных круга. Эдуард Львович, ничего не подозревая, готовил Венедикта в музыкальную школу и уже заранее ликовал, представляя эффект от игры своего ученика на вступительном прослушивании. Однако в конце второго года музыкальных занятий на Венедикта обрушилась, да-да, именно обрушилась безжалостная магия цифр и математических сопоставлений. Как малыш, который роняет старую игрушку, когда видит новую, Веня потянулся к точным знаниям, совершенно потеряв интерес к профессии музыканта. Эдуард Львович, почувствовав неладное, много и часто звонил своему любимцу, говорил в телефонную трубку о необходимости продолжить занятия музыкой, твердил о каком-то высшем предназначении…
Веня всякий раз при разговоре с Эдуардом Львовичем поднимался и стоял по стойке «смирно», прижимая правой рукой к уху телефонную трубку. Казалось, он находится весь во внимании и молчит, боясь перебить вдохновенный речевой поток своего учителя. Ничуть! Ум Венечки прогуливался в это время совсем в другой стороне. В обнимку с холёными натуральными и взъерошенными иррациональными числами он блуждал по запутанным лабиринтам математических обстоятельств и весело отмахивался от надоедливых децибел добрейшего Эдуарда Львовича.
Тёмная, как Кносский лабиринт, оглашаемая леденящими душу рыками поверженных софизмов, математика увлекала нового Тесея всё глубже в свои таинственные дебри. Логический максимализм на долгие годы овладел романтической сущностью Венедикта. Прежние изобразительные и музыкальные очарования уступили место очарованиям высокоточных алгебраических соединений.
Здесь мы закончим «опись» детских и ранних юношеских лет Венечки Аристова. Немного отдохнём, выпьем с читателем по чашечке кофе и годков этак через пятнадцать подсядем «под локоток» к долговязому небрежно одетому человеку неполных тридцати лет. Чем-то наш герой сейчас занят?..
Часть 2. Диалог
Позабыв о кипящем на плите чайнике, Венедикт сидел на старом семейном диване и, подперев подбородок грифом гитары, размышлял об очередном уходящем в Лету десятилетии.
«Мать честная! – сокрушался наш герой. – Сколько же я наломал дров…»
Привычным движением он переложил деку под правую руку и извлёк раскатистый аккорд.
«Ах, Веня, Веня, куда тебя, дурака, всё время несло? Почему, не дорисовав картинку, не доиграв мелодию, не дописав формулу, ты срывался с места и бежал прочь? Искал высший смысл и всё такое? Нет, дружок, высший смысл был и в художестве, и в музыке, и в математике! Ты чувствовал это. Поэтому твоё сердце трижды влюблялось в будущее, но твой вертлявый ум трижды уводил тебя в сторону. Представь, три раза ты предал самого себя!..»
Напротив дивана возвышалось большое напольное зеркало. Оно в точности отражало движения Венедикта и даже ход его мыслей. По перемещению бровей, то взлетающих вверх, как крылья потревоженной птицы, то устремляющихся вниз и «вгрызающихся» в переносицу, подобно двум прожорливым гусеницам, можно было наблюдать за внутренней мыслительной борьбой, происходившей в растерянном и переставшем понимать самого себя человеке.
И всё же, несмотря на визуальное, в целом горестное сходство, отражение в зеркале являло вид человека собранного и целеустремлённого – настоящее Alter ego. Это удивило Венедикта.
– Ну что, приятель, хана чистописанию? – съязвил он, глядя в глаза «собеседнику».
– Отчего же хана? – ответил тот. – Хана – это, батенька, только начало. Прими житейский раздрай как период размытых смыслов. Так сказать, насильственный отдых ума перед будущим марш-броском. Конечно, идти от противного всегда неприятно, но тут уж ничего не поделаешь. Для избавления от дурака все средства хороши, и лучшее из них – полное заблуждение!
Альтер эго в свою очередь ехидно улыбнулось, но, припомнив систему Станиславского, изобразило плаксивое выражение лица в точности, как у «первообраза».
– Скажи, что мне делать? Может, сойти с ума и посвятить остаток лет натуральной биологии? – Венедикт заиграл перебором, выжидательно глядя в зеркало.
– Остаток лет, говоришь? Э, нет, батенька! Нам велено трудиться! – рассмеялось Альтер эго. – Карма у нас такая. Иначе говоря, Господняя обязанность перед человечеством, понимаешь?
– А может, это всё фантазии, и нет ничего такого! А наши сакральные мысли – обыкновенное житейское баловство, проверенный способ поддержать в груди «священный» огонь гордыни…
На этот раз Альтер эго не спешило с ответом и замерло в задумчивости. Игривая улыбка спорхнула с его лица и растаяла в зазеркалье.
– В отличие от тебя, – наконец заговорило умное отражение, – я верю в Бога и в устройство бытия по вертикальному принципу. Ничто не происходит просто так. Всё вытекает из предыдущего и является основой для последующего.
– Из твоих слов выходит, что Дарвин прав? И библейское сотворение человека – красивая сказка для малограмотных? – перебил Венедикт.
– Хорош иконописец!.. – улыбнулось эго. – Быть может, Дарвин и прав. Но его правота никак не объясняет появления разумного начала. Разумное начало в человеке не конструируется из биологических процедур. И об этом тебе хорошо известно.
– Это ещё почему? – Венедикту вдруг захотелось подцепить Альтер эго.
Он отложил гитару и пересел поближе к зеркалу на табурет.
– Основной закон философии учит нас не удивляться непредсказуемым событиям. Гусеница сворачивается кокон, из которого через некоторое время вылетает… бабочка! Это невероятно. Быть может, и с интеллектом происходит то же самое? Он рождается чудесным образом из накопившегося количества некоего бессознательного вещества. И нам ничего другого не остаётся, как придумать бога, чтобы хоть как-то объяснить самим себе его волшебное преображение в мыслящее начало?
– Хороший вопрос, – Альтер эго не уловило в словах Венедикта скрытый розыгрыш и, оглядев отражённое в зеркале пространство, ответило:
– Выходит, мы с тобой смотрим в одну и ту же сторону, но с противоположных точек зрения.
– Это как? – Венедикт заметно повеселел.
– А так. Мы стоим рядом. Тебе ещё предстоит подъём на вершину, а я только что с неё спустился. Мы оба смотрим вверх, но с противоположных относительно вершины точек зрения. У тебя вершина ещё впереди, а у меня – за спиной, сзади! Это понятно?
Венедикт собрался было ответить, но в это время раздался звонок в дверь.
– Иду-иду! – Венедикт поднялся с табурета и вышел в прихожую. Его собеседник «вышел» вслед за Венедиктом, но в противоположную сторону.
Часть 3. Сбой
Немного истории. По окончании школы Венедикт поступил в престижный Инженерно-Физический институт. Беспечно жонглируя знаниями, полученными в математической спецшколе №2, он, в отличие от подавляющего большинства абитуриентов, экзамены сдал шутя. К примеру, на профильной физике ему был задан вопрос: «Назовите физические параметры среды, при которых происходит молекулярная конденсация влаги. Короче говоря, когда выпадает роса?» На что Венедикт, рискуя получить пару, улыбнулся и простодушно ответил: «Утречком!»
Экзаменатор замер, сдвинул брови домиком с проломленной крышей и внимательно посмотрел на юного наглеца.
Чутьё педагога различило в наивной улыбке бесстрашного абитуриента многие испытания будущих лет. Физик потупился в бумаги и, не поднимая головы, задал вопрос вне школьной программы. Венедикт ответил. Экзаменатор в свою очередь улыбнулся, поставил в ведомость «отлично» и отпустил его со словами: «Молодой человек, будете гулять по росе, не простудите голову!»
Учёба не принесла Венедикту внутреннего удовлетворения. Проявив полный пофигизм к систематическому обучению, он опаздывал на лекции, а часто и вовсе прогуливал занятия. По вечерам вместо подготовки к очередному коллоквиуму бесцельно шатался по Москве или, купив за гроши билет на галёрку, высиживал какой-нибудь концерт, размышляя о чём-то своём, далёком от темы представления.
Беспечно распоряжаясь огромной личной свободой, внезапно свалившейся ему на плечи, и не зная, что за каждый сделанный в жизни шаг придётся отвечать перед собственной судьбой, Венедикт зажил полушутя. Про такого в народе говорят: «Паял-лудил и ум нудил о том и этом понемногу».









