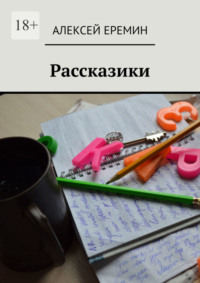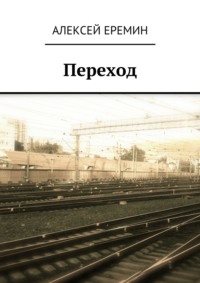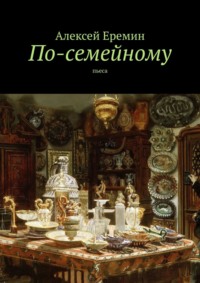Полная версия
Плут, или Жизнеописание господина Плутнева, достопочтенного депутата Государственной думы
Серёжа Газон
В один прекрасный летний день в Перунов бор, где я, Толстый и Паяльник чадили заграничными лисичками, взятыми на пробу, дурея от раскалённого соснового духа и безделья ожидания, переваливаясь на ухабах, как негритянки беременные, по просёлку в зелёном бурьяне заросшего колхозного поля медленно подъехали две чёрные девятки. Из одной вылез Саня Кривой (c ударом молотка его левое глазное яблоко сползло вниз). Из другой вышли Твиксы. Голова одного была в горшке из белоснежных, как парное молоко, бинтов. Все были серьёзны, а Саня Кривой скалился, как собака, жёлтыми мелкими зубьями.
Пусть я был шкет тогда, но нутром почуял, что сейчас эти уголовные элементы затянут наши молодые неокрепшие души в паутину насилия лжи и принудят к совершению преступлений, пользуя силу принуждения.
– Сегодня люди Мирона расстреляли тачку Серёжи Газона.
Мы переглянулись, прихерев.
– Дряхлый Мирон ссыт, что Газон силу набрал. Вы, пацаны, уже не сосунки желторотые, – говорил Коля Твикс. Рядом Саня Кривой, присев на корточки, осматривал нас снизу-верх и ловко обрезал кривым правилом ногти. Я слушал, но косился на этот ножичек (говорили, он мог как художник расписать человека, а терпиле одному, кто на бабло был выставлен, ухо отчекрыжил). – Пора определяться, вы под кем жить хотите, под старым пердуном или под Газоном вровень с нами?
После такого прогона меня так и подмывало выкрикнуть, как пионер присягу: «С Газоном навсегда!». Но язык в глотку заховал. А если Газон сдох или вот-вот отчалит, смысл за него впрягаться? Мирон большой чел, про нас и не слыхивал, а вот если мы начнём за Газона топить, нам матку наизнанку как пить дать вывернут.
– Конечно, за Газона, – звонко выкрикнул Толстый.
– Да, мы завсегда с вами, пацаны, – прокуренным голосом, нарочно медленно, для солидности, протявкал Паяльник.
– Конечно, мы за Газона, за вас, мы не подведём, мы не ссыкуны какие, чтоб слиться, – последним, как бы солидно, а на самом деле догоняя своих подельников, чтоб не опоздать, дристанув пару раз голоском, подлизнул я.
– Тогда вот, – от машины отвалился Стёпа Твикс, медленно вывел из-за спины руку и протянул ствол.
Это был макаров с перемотанной синей изолентой рукояткой, какой перематывали клюшки сельские хоккеисты на пруду рядом со школой. Раскрыв кормушки, Толстый и Паяльник зекали с завистью. В отличие от них, я знал, что мне дают. И принял. Принял, потому что если бы не взял, взял бы кто-то из моих. И первая пуля осталась бы во мне. Взял потому, что он притягивал. В нём была власть, сила и красота. Словно просил, возьми в ладонь.
Оглядываясь на Толстого и Паяльника, распахнувших варежки, как если б они бабу голую щупали, я отстрелял, целясь в толстую берёзу, обойму. Весело, громко, в руку отдаёт, страшно отчего-то – как первый трах.
Только ствол вошёл в мою юную судьбу раньше секса.
Мы расселись по тачкам и через час подкатили в кабаку «Фаэтон» в ПГТ «Автопрокладка», позже от вида которого я чуть не в штаны буду мочиться каждый раз. На крыльце ждал Газон в чёрных брюках, рубашке, ботинках, в узких фарах металлических с зелёными стёклами, в перстнях на мальцах, нарядный как женихаться. Из двери выполз Глист, который держал в руках, как грудью кормил, замотанный в синее шерстяное одеяло, каким в детсаду меня укрывали, куль. За ним вывалил незнакомый парень в синих трениках с оттянутыми коленками, как отец мой носит, чёрной майке и синих кедах с белыми носами, с двумя охотничьими ружьями на одном плече. Они сели в джип, Газон за руль, и мы покатили за ними по шоссе в сторону Костромы, потом по узкой асфальтовой дороге деревнями, полями, потом лесом, пока на лесной свёртке не сползли с трассы и не встали на земляной обочине в тени деревьев.
Я жал ластой макарова и пялился, как Твиксы передёргивали затворы длинных калашей с жёлтыми деревянными прикладами, отцепляли и прицепляли коричневого цвета рожки с патронами, словно угловатые челены в узкие норки. Кривой и парень в трениках, надломив охотничьи ружья, вставляли в двухстволки патроны.
– Они поедут здесь. Сначала рыжая копейка, вся раздолбанная, её не трогаем, следом белая «вольва» и джип японка. Лупите по салону и колёсам без остановки. Или они нас, или мы их.
Мы почапали за Газоном между деревьями к дороге. Я озирался на Толстого с Паяльником, которые стояли молча у тачек. Тощий Паяльник, одетый в зелёные огромные шорты, сильно большовые, и позорную голубую маечку, помахал мне двумя ладошками.
Подумалось «придурок!», но не зло, а с какой-то благодарностью.
Я ждал у прямого соснового ствола, липкого на жаре от смолы, словно мёдом намазанного. Был бы жив дед, сейчас бы кочевал с ульями по гарям, а не стоял бы измазанный. Думал о Галчонке, что больше не увижу её и что хоронить меня она не придёт. Дать стрекача к Паяльнику и Толстому, сховаться, в Питер укатить, как сеструха, кто меня там достанет?! Но здесь Кривой и Газон достанут, они в двух шагах. Это Твиксы с калашами и тот в трениках вверх по дороге. Кривой пером горло вскроет, легче чем консерву.
Ждали долго. Я даже отлить сходил раз, но Кривой сидел на земле, спиной к стволу и залитой солнцем дороге, видной близко-близко в просветах между соснами, и пялился на меня.
Я решил, что, ховаясь за сосной, отстрелю все патроны и буду тихонько сидеть, чтоб моя задница осталась при мне.
Ждали, ждали, ждали, а случилось всё сполошно.
Поехал старый жигулёнок, я даже не понял, что это тот, как загрохотали выстрелы автоматов, и я стал палить в дорогу, а после сел и стал дрожащими ветками выгребать из чердака маслята, которые выпадали и укатывались на землю, заштопанную длинными сосновыми иголками. Стрельба вдруг прекратилась, только из-за одного дерева раздавались редкие выстрелы, будто кто засиделся на толчке и бежал за братвой, подтягивая обосранные штаны с криком: «Меня, меня обождите!»
– Харе шмалять, – крикнул сипло и так рядом, что очко ёкнуло, Кривой, и выстрелы оборвались. Стало слышно, как молотит мотор близко-близко от меня и шипит жидкость, будто кто ссыт.
Я выглянул – в нескольких метрах, смяв длинный передок, в дерево уткнулся белый «вольво». Его двери и боковые стёкла были в дырках от пуль, стекло заднее обвалилось.
Когда я подошёл, на земле лежало огромное тело в варёных джинсах и синей рубашке с коротким рукавом. Мне запомнилось, что в распахнутом вороте грудь была голая, без волосьев.
Как ловкий игрок в бильярд прицеливается, щелкает кием, загоняет шар в лузу, отходит, присматривается и забивает новый, так Газон, не торопясь всаживал из пистолета пулю за пулей в тушу Мирона, перед каждым выстрелом словно что-то припоминая ему.
Потом Газон в окружении Твиксов с калашами на перевес, направленными на нас, проверил у каждого оружие. Влагалище моего макара было пусто, чем я заслужил похвалу.
Вот так моя чистая ангельская душонка преступными элементами была затянута в омут криминального промысла против моей доброй воли. Хочу отметить, что никаких преступлений, связанных с лишением жизни, я не осуществил: шмалял в воздух и никого не задел. А стрелить принуждён угрозой лишения жизни, поэтому все действия предприняты неосознанно в детском возрасте.
Галя
Как после победы доходяге-тыловику, который ствол в глаза не видел и всю войну бумажки перекладывал, клопами обосранные, вешают боевую награду, так мы были облагодетельствованы.
Нам подняли зарплату, выдали по мотику, на которых мы наворачивали летом и зимой по району. Мы по-старому крышевали самогонщиц, тягали им дрожжи, посыпуху, качали воздух с должников. Но Газон запустил нас и в самую ядрицу – рынки «Родничок».
Жрачка, бухло, стройматериалы, техника, одёжа – всё толкали у посёлка Автопрокладка, рядом железкой, в заводских корпусах, на бывшей заготовительной площадке, рассечённой на улицы из контейнеров, и прямо с фур, распахнувших задние двери, как хабалда ягодицы. Здесь же нанимали мужиков ставить срубы, копать колодцы, отделывать хаты. Работали тошниловки на лёгкий перекус. В закоулках толкали герыч, шмаль, колёса. В соседних домишках замостырили бани да сауны, где ждали, раздвинув лярвы, шлюхи. С поездов, с автобусов, на тачках и пёхом народ валил на рынки.
С этих рынков, обнесённых старой красно-кирпичной стеной бывшего завода металлоконструкций, как с материнских сисек, кормились сначала Мирон, а теперь Газон.
Мы водомерками мотались по этому огромному миру. Шестерили под Газоном, при случае обували лохов. Выходило не только на пожить. Я откладывал в тайник в полу под изголовьем кровати по мелочи, но часто, как коза серет.
С 15 лет я копил на свадьбу.
Я бухал, курил, прогуливал, она училась на отлично, сочиняла стихи и музыку. Её папа директорcтвовал в школе, мамка рулила сельской почтой. Мои предки пили горькую. То, что со стороны было хернёй, для нас было взаправдашним. Я носил за ней портфель, катал на мотике и ссал даже поцеловать в щёчку. Да, саднило, что не только Толстый, даже задрот Паяльник уже расчехлили свои кочерыжки. А я всё ходил девуном. Изредка, когда яйца набухали арбузами, a челен сводило, как в тисках зажали, я салютовал в потолок. Но трахнуть кого-то казалось мне тогда, что дерьма отхлебнуть из миски. Я знал, Галочка моя судьба и любовь навсегда, потерять её невозможно.
Когда мне стукнуло шестнадцать, я снял конуру в Устье; место центровое по району, не то что наша морковкина задница. Галкин батя накатал заяву ментам из детской комнаты, мол, я, несовершеннолетний, один живу, родители пьющие, чтоб меня в детдом оприходовали, от Галчонка подале. Но Газон крепко держал район, как наш президент Владимир Владимирович Путин дорогой страну нашу держит, что многажды труднее, но так на то он и гений всех времён и гордость наша, так что отвалились менты, как бородавка сухая.
Однажды Галя после уроков спросила показать, как живу.
Почему она пришла, что толкнуло её, ведь после слезами кровавыми умылась. Но тогда отчего сама? Я шаркал с разбухшим между ног хозяйством, но терпел, не просил, не требовал от неё ничего. Верится, что пришла из любви. Что хотя бы тогда любила. Но уже никогда не узнать.
Так мы стали мужем и женой.
Летом 1995 года Галка поступила в Ярославский государственный педагогический университет имени К. Д. Ушинского на факультет иностранных языков. Я погнал на мотике в Николу Корму за заначкой.
Калитка из старых штакетин в редких, как с конца побрызгали, чешуйках голубой краски лежала в траве. Где идеально ровная ярко-голубая нарядная огородка с выкрашенными белым столбами, как колоннами? Где чёрная густая земля без единой травинки в ровных грядах картофельных кустов, которые тянулись до заднего двора? Узкая сырая тропа пробиралась как в джунглях в кустах. На поляне мятой травы чёрными кучами сидели отец с матерью, вокруг валялись пустые бутылки, мятые пачки сигарет. Их коричневые рожи, пухлые от пьянства, скалились мне жёлтыми зубами.
– Явился, сучонок, – просипела мать.
Я чапал к дому, но мне очень не нравились их довольные хари. Споро захрустели под кроссовками пластиковые стаканчики. В два прыжка я взлетел по деревянной лестнице, перепрыгнув проломленную ступень. И тут мне в спину ударил ржач, словно дали ногой в прыжке. Я споткнулся, падая, рванул в комнату, нырнул под кровать, уже всё зная; половицы в углу у стены не было. На всякий я прошарил рукой, но тайник был пуст. Только палец занозил.
– Что, сынок-ссыкунок, – сидя на траве, мать скалила зубы с пробоиной на месте правого клыка, – мамку не обманешь, мамка жопой чувствует тебя, засранца.
Я с разворота засадил ей ногой прямо в опухшее хлебало. Она ветками взмахнула и опрокинулась на спину в траву.
– Ты, ты чё, – отец опирался на руки и ноги, пытаясь встать, похожий на лесную корягу. Я с удовольствием дал ему под брюхо, так что он сковырнулся и скатился в крапиву. Я так хотел забить его! Да западло лезть в сырую крапиву. Да и бабло не выбьешь, спустили, суки.
Но Галчонка мы всё одно с её родаками уютно устроили в комнатке рядом с Универом. Я мотался к ней так часто, как мог. В седальнике с час, потом по железке до Ярика, потом по городу. Ща бы сдох на полдороге. Но тогда время пролетало, я ждал этих дней, лишь бы увидеть Галочку свою. А она, как вантуз упрямо и нудно прокачивает дерьмо в трубе, прокачивала меня. Подсовывала книжки, рассказывала о концертах в Ярославской филармонии, о Художественном музее, таскала как бычка за верёвку в театры. А ещё говорила уверенно, как знала, что будет у нас мальчик, а чуть позже, «когда малыш подрастёт», ещё девочка.
Мне виделись эти мальчик и девочка, виделись такими волшебными, что если бы кто попытался только лишь мечту о них отнять, тому я бы кадык зубами вырвал.
Я без конца дарил ей цветы. Цветастые фразы из меня выходили тяжело, как глинка при запоре, а сказать душе было что. Галка принимала всегда и всегда с благодарностью. Потому что знала, это высший взлёт земляной души.
18
Штабом ОПГ Газона был ресторан «Фаэтон» на Автопрокладке. Место центровое по району, рынок-кормилец под боком, а сам шалман конструктор из боковушек и приделок, так что и ховаться, и сливаться сподручно.
Как нынче шлюхи новомодные папиков богатых таскают с собой сук в сумочках, так Газон держал пацанов на коротком поводке, требуя к себе в «Фаэтон». Нам, малолеткам, отметиться в кабаке козырном круть, еще и при Газоне, но слухи про укромные номера, где басили пацаны не только хабалдам мохнатки кудрявили, но и фраеров кончали Твиксы с Кривым, как в задницу булатом кололи, так что мы сидели на мягких стульях, как на углях горячих.
В один день в июле 1996-го Коля Твикс поманил меня пальцем. Мы с Толстым и Паяльником как верные жёны засеменили к нему.
– Что жопы отклеили? Валите. А ты со мной.
По длинному коридору с закрытыми дверями, освещённому жёлтым светом, матовыми пятнами блестевшим с коричневого линолеума и крашеных зелёных стен, мы шли в глубину «Фаэтона». Здесь я никогда не был. Любопытство свербило в юной заднице, но и страх, как бы чего не вышло. Запхают в конуру и поминай как звали. Твиксам человека уделать, что опростаться.
Коля Твикс отпер дверь:
– Заходи.
Анус резко сморщился, но я не подал виду. Краем глаза сёк, ожидая, что он отоварит меня.
Пол в комнате заставили картонные коробки, между которыми шла лабиринтом тропа. Твикс поднял пухлый чёрный пакет с меня ростом, мне указал:
– Пять коробок возьми и давай за мной.
Коробки вроде были не тяжелые, но я узопрел, пока допёр до девятки и уложил в багажник.
Твикс протянул ключ с брелоком на цепочке в виде вырезанной из моржового клыка голой бабы с длинными волосами, которая стоит в корыте, правой рукой прикрыв сиськи, а левой павильон. Я еще не верил своему счастью, но Коля сказал:
– Подвезешь, теперь твой агрегат.
– Да, да, да! – я толкал голосом «да» всё выше, будто челен пихал всё глубже, приближаясь к кайфу оргазма.
Он посмотрел на меня и ухмыльнулся. Я не знал, что Твиксы умеют улыбаться! Но тогда и это не торкнуло! Счастье пробило! Кажется, никогда я так не был внезапно счастлив. Я распахнул дверь чёрной, с наглухо тонированными стёклами девятки. Кресла были обтянуты чёрным кожзамом, руль в кожаной оплётке, блестела серебристой пластмассой автомагнитола JVC, а приборы были не как у всех – чёрные, а белые, с красными стрелками! Я сел в кресло, боясь коснуться неаккуратно руля, шарика рукоятки коробки передач в кожаном шлеме, как Галчонка в первом сексе.
– Погнали уже?
Твикс махнул веткой на чёрную бэху. Козырная тачка! Но даже если у него космолёт, мне пофиг. Я на колёсах, на тонированной девятке, салон в коже!
Мы помчали за город. Я вёл как в тумане и толком не умея и стремаясь попортить. Коля достал мобилу. Так близко я видел её впервые и не мог не смотреть, как питок в завязке на водяру.
Вежливым голосом, перекованным из чугуна в серебро, Твикс защебетал:
– Валентина Ивановна, я еду, через минут десять буду.
Он зло взглянул на меня, но я и не подумал ничего сказать.
Мы подъехали к воротам, которые тут же раскрылись, отчего понял, что Твикса здесь знали. Мы лихо зарулили прям к каменным ступеням жёлтого дворянского особняка, ведущим к обшарпанным колоннам.
Тощая как палка тётка в белом халате, с жёлтой гривой волос, как одуванчик на тонком стебле, протянула две руки:
– Здравствуйте, Николай Иванович.
Меня уже ничто не могло удивить.
Мы затащили коробки и мешок в кабинет с надписью «Директор».
– Пройдёте к подопечным?
В свежевыкрашенном спортзале варежка моя распахнулась, как междуножие на челен; Механик и Тренер отжимались с пятью подростками от пола. Ещё один пацан, сухой и накаченный, босой, в одних чёрных трусах молотил козырными красными, как юшка, перчатками, баскую жёлтую грушу, подвешенную к потолку. Тренер отправил пацанов бегать по кругу, подошёл к Твиксу. Они что-то перетёрли, Коля сказал директрисе тем же голоском с серебряным колокольчиком:
– Новенькие к вам поступили?
– Пройдёмте, Николай Иванович.
В комнате с детскими стульчиками и столиками, расписанными по чёрному лаку зелёными листами да гроздьями рябины, сидели три шкета в шортах, два совсем малолетки, третий лет четырнадцати. Они обернулись на нас. Два остались сидеть, а старший как увидел Твикса, метнулся в угол и усох, урыв башку в голых красных коленках и закрыв ладонями бритый затылок.
– Виталик тихий мальчик, но как увидит любого высокого мужчину, так забивается в угол. Но не кричит.
Твикс любезничал с директрисой. Я смотрел на Виталика, который из-за решётки пальцев зыркал то на Твикса, то на меня, шморгая носом. Всплыло, как я лазил в интернат для дебилов, малая казалась сестрёнкой, и как-то жалко стало этого Виталика!!! в коротких шортиках, увечье ничтожное в сравнении со мной, при тачке, стволе и невесте.
Юрий Гагарин
С появлением тачки само собой вышло, что мы стали взгрёбывать больше. Иногда Твиксы с Кривым отчаливали в Питер, тогда сам Газон нарезал нам уроки за столом в «Фаэтоне». Мы ловили кайф от своей крутости, а шелупонь малолетняя, открыв хлеборезки, испуганно заглядывала нам в зенки. Мы подтянули пару шкетов, Твиксы отрядили к нам Кузю, здорового бугая из детдомовских. В Устье, Николе Корме, Бортниках, на Святом Мысу, Красном ткаче мы крутились сутками, а Газон качал воздух в свои карманы.
Считаю необходимым заявить, что по принуждению мы, несмышлёныши, подвергались изощрённому давлению профессиональных воров и бандитов, не имея возможности осознать свою неправоту, не понимая, что делаем, совершали мелкие правонарушения. Бывало, прессовали очередного должника, который базланил на весь дом, кровищей залитый, вышибали бабло с наркош, собирали дань с торгашей. Но время было такое, что власть государева обосралась, и без светлого ориентира, который есть теперь у нового счастливого поколения, мы вынужденно, подчёркиваю, вынужденно копошились в навозе криминала.
Отмечаю, что душа моя чистая завсегда стремилась к законопослушанию и высокой социальной ответственности личности перед обществом.
Галя моя, с небесным голосом, была тот ангел, который вёл меня к честной жизни. Ради любви к богоданной невесте, а не для корысти своей, я выполнял поручения воров, не имея возможности отказаться под угрозой жизни. А отработав, я садился с Галчонком в обтянутый чёрным кожзамом салон вороной девятки, откуда мойщики стёрли руду да собрали гнилушки очередного борзого клиента, который отметелил девочку и не хотел платить, и ехали на «Родничок» выбирать обои, клей и плинтусы. А потом очищали стены в нашей новой квартирке в Устье, и я любил её, стоя по колено в оборванной бумаге, а после, через лень, таскали вороха на помойку, грязные, усталые, но счастливые.
В июне 1997 года, когда Галочка, как всегда, на отлично сдала сессию, я отпросился в отпуск. Мы не поехали в Мухосранск или Сочи-Крым. Мы уезжали в Турцию, и это было для пацанов подо мной как полёт первого человека в космос!
Я Юрий Гагарин!
Впервые полететь на самолёте, и сразу в Турцию, если до того только в поезде из Костромы скорлупал варёные яйца под звон стаканов в подстаканниках? Это как девственность потерять; гордо, волнительно, вроде приятно, но непонятно.
Галка хоть на языках говорит, а я вообще пень, торможу, как первоклашка на линейке: «А идти куда?», «А что такое «гейт?», «А вдруг не выпустит пограничник?», «А вдруг в Турции завернут?», «А поссать в самолёте дадут?», «Bisness lounge это для кого?», «А заходить можно?», «А коньяк дают?», «А бесплатно?»… Пошёл на дальняк котлету отбить. Галку с собой не возьмешь. Сделал грязное дело, твою мать, как руки вымыть?! Кран без краников. Как назло, никого; вертелся-крутился – р-раз вода пошла. Только намылил грабли – хер вам в нос. Скользкими крабами дудки тереблю, всё в мыле, я в поту, а если самолёт отчалит, а воды нет, идти в пене, как лох последний? Хоть в толчке иди смывай. Слава богу, один доссал, я подглядел. «А жрать дадут, а почему очко свистит в аэроплане? А спускать с него как?»
В отеле ром, виски, пиво – всё включено! Как если б в детстве попал в бесплатный парк аттракционов, катайся не хочу. А ещё вода до горизонта. Море дышит, как живое, то ласкается, то сердится крутой волной.
В Турции впервые заметил другую женщину. Не захотел, а именно увидел. И не определенную, а просто – другую. Увидел, что Галки фигура, еще вчера мраморная статуэтка, чуть поплыла, как свечка. А рядом молодые аниматорши с загорелыми телами в купальниках скачут на песке.
Возвращался я уже не первым космонавтом планеты Земля, а сбитым лётчиком. Пялился в окно, на дождь, на уходящие назад длинные одноэтажные красного кирпича бараки, под скатами металлических крыш в лишаях ржавчины. Думал даже не о том, что возвращаюсь из чистенького отеля с вежливыми слугами, из Москвы с её огромными домами, широченными проспектами в свой нужник. До меня дошло, что у себя на селе я был ферзь – с женой на поезде в Москву, потом на самолёте за границу, на Средиземное море в саму Турцию, ещё и в отель всё включено, пей, ешь сколько влезет. А в Москве таких, как я, как какашек под козой. А для бизнес-класса я, кто «макара», был бы со мной, выбив зубья передние, им вхерачил в глотку, что сходили б под себя, халдей, которого не замечают, развалившись в широких креслах. До меня дошло, что мне скоро двадцатник, а я пустое место, шестёрка!
Глядя в длинный мокрый бетонный забор, скучный, как секс по сильной пьяни, мимо которого тошнился состав, зарёкся, что добьюсь для Галчонка, и сынульки, и дочурки, которые будут у нас, раз знает она, значит, будут, и бизнес-класса широких кресел, и шофёра в прислугу, что мне будет открывать двери мерса шестисотого, и шампанского французского перед взлётом, и тарелок фарфоровых!
«Фаэтон»
В двадцать Галка понесла, сыграли свадьбу, брюхатой она сдала экзамены, и мы поселились в нашей квартирке в Устье. Она писала диплом, нянчилась с Илюшкой. Я работал ночами, рвал жилы, надеясь встать вровень с Твиксами и Кривым. Наверно, не такого она ждала.
Но нельзя быть немного беременным или наполовину дохлым; если ты в банде, ты дышишь по её законам, жёстким законам Газона. И если ночью стрелка в Костроме или сауна с пацанами, отцепиться западло.
Газон уставил, что время от времени ближний круг собирается в «Фаэтоне» с жёнами. Кто не ходил, тот шестерил. С этим было строго. Кто приходил один казался ему скрытным, а значит, опасным. И Газон всегда был в курсах, куда надавить при случае. Дураком он не был.
В первый же вечер с Галиной, прознав про её голос, а он, сука, всегда всё знал, просил спеть под гитару. К тому моменту наша пьянка и ругань обрыдли ей настолько, что она исполнила совсем не то, что заказывали, а то, что дома они на четыре голоса с матерью отцом и братом любили – русские романсы. Она хотела показать им, что она не с ними, что она другая, а Газон, как пескарь последний, заглотил русский романс, как шлюха челен по самые яйца.
Она ненавидела наши сборища:
– Я не выношу ваши пьянки. Он смотрит на меня как на еду.
Я сам это чуял, но не ходить значило косячить.
Теперь выпив, смягчившись, Газон каждый раз говорил музыкантам:
– Ребята, отдохните, – а ей: – Галя, спой на свой вкус.
А я, говнюк, на подхвате:
– Иди спой, я прошу, уважь хозяина.
Каждый раз она ходила на сцену и пела что-то печальное и прекрасное, стараясь изо всех сил – не порадовать, нет, стараясь улететь вместе с песней от наших унылых рож. Газон её чувствовал, и как пацан, прицепив санки к трактору, пытался проехаться за ней вдаль. И я, и вся братва, и жёны их, все видели, как он пожирает, как голодный пайку хлебную, как выпивает её, словно алкаш конченный, поднося первую утреннюю чекушку трясущимися руками, с колотящимся бешено сердцем.