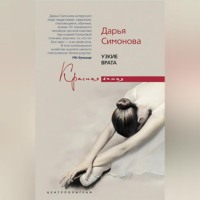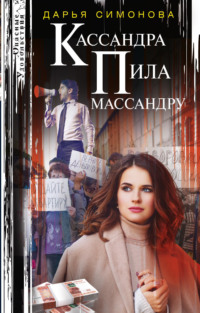Полная версия
Дни, когда все было…
Мне приятно было вспоминать о том вечере, хотя хэппенинг готовился не для меня – для Марсика. «Накопила денежки, старая дура!» – так она сама говорила о себе. В кои веки накопила… По-моему, тогда именно она и решила взять курс на Западное полушарие. Злые или добрые языки – разве их разберешь! – объяснили мне, что в те дни Марсик получил трудный опыт. Будто в суматохе вертепа… Я закрывала глаза и уши. Не хочу ничего об этом знать. Тут ведь такая штука: нельзя умерщвлять харизму умерших. От этого начинаешь умирать сам. Так что до сих пор не знаю, что за окаянный опыт сбил Марса с путей и стал поводом к этакому паскудству – любимая женщина на вокзале закусывает вино любительской котлетой.
Господь с вами, а почему тогда поминки всегда в том логове?! В том самом, где он завис, пока мы с Элей… Но Марс вечно утыкан вопросами, как святой Себастьян – стрелами.
Я спросила тогда Эльвиру, – на мутном вокзальном кураже, – дескать, а вам никогда не хотелось прославиться? Она спокойно – нет, не хотелось. Вообще, ей действительно было не до славы. Не хочу думать, предвидела она или нет, – страшно мне думать, потому что сразу лезу в ее шкуру, цепенею. Думаю, скорее «да» чем «нет», предвидение бывает деятельным, она готовилась, только толком не понимала к чему. Просила меня бросить называть ее на «вы», я с горячностью соглашалась, потом соскальзывала обратно в ребяческий пиетет. Я опьянела молниеносно, у меня организм идеально послушен алкоголю, в том смысле, что ему скомандуешь: пить, веселиться! – и он мигом. Я, упиваясь миссией затейника, давай плести косички из лирических отступлений и наступлений. Вариации на тему глории мунди терзали меня изначально, со времен младенческой несознанки. Приеду в деревню бабушкину – и оторопь берет: буйные мужики, тихие старухи, сумрачные женщины с толстыми икрами пьют водку, полощут простыни в речке Ряске, судачат, ссорятся, встают в четыре утра, носят воду, угощают домашними яйцами, тарахтят мотороллерами, моются раз в неделю в горячем банном аду и тихо тонут в Лете, так и не узнав, что такое Кабо-Верде, Лонжин и каре миа – просто слов этаких не услышав. Да не из-за слов, конечно, обида, а из-за того, что люди исчезают легче пыли: молодые, старые, идиоты, умницы-разумницы, праведники, любимцы, подонки, – всех уносит в братскую могилу местного кладбища, чтобы лет через пятьдесят срытые их памятники свезли на свалку, а овальные портреты, каждый из которых заслужил слезу живую и прикосновение губами, морщились и тлели. Но Дориана Грея тут и конь не валялся…
Эля слушает меня насмешливо, интересуется, что же я предлагаю. Я отвечаю, что очень неправильное на Земле устройство. Пусть бы мы после кончины улетали на другую планету, потом на следующую, и так по кругу, и снова Земля, и дальше… Вот лучше бы так, чем полное загнивание в ящике, 9 дней, 40 дней, – и забвение. Оттого и тоска на планете нашей.
– Почему тоска? У кого тоска? – улыбается Эля.
– У меня, – бью себя в клетку, – тоска. Пропадаешь ни за что, – в грязи жил, в грязь и ушел. Неправильно это – лучший дар во Вселенной изводить как семечки. Его надо холить, лелеять и укутывать в красоту всякую, пусть иллюзорную и утопическую – в мечту, как в фильме «Безымянная звезда», помнишь? Мой любимый фильм!
Я, однако, глубоко подшофе. Ясен перец, у меня не один любимый фильм, но про «Звезду» есть маленько. Эля не отпускает улыбку.
– Да сдалась она, твоя звезда безымянная! – Зажмурившись, оголтело отпивает «Изабеллу». – Ты вздумала людей любить сильнее, чем их любит Бог. Глупости это и гордыня, и не выйдет ничего. Оставь человеку человеческое, какое ни есть – все с Его позволения…
Я притормозила. Вот уж не думала, что Эльвира Федоровна настолько не чужда, так сказать…
Кстати, Бога я в лицо, как и Вацлав признавался, тоже никогда не видела, только страх божий: скажу дурное – и он накажет. Не будь карательной составляющей, может, мои с ним отношения сложились бы иначе. А так они едва тлели, как беседа с чужим строгим мужем в то время, как хозяйка отлучилась по нужде. Сидим, пялимся в стороны, фантики мусолим, полный вакуум. А как подруга вернулась, так дундука ее и не замечаем, хихикаем. Хотя смутно догадываемся обе, что для чего-то он нужен тут, наверное, камешек на сердце замещает, чтобы мы слишком на веселящем газу не увлеклись в облака, чтобы не получилось досмеяться до беды. Вот и с Богом такая же неловкость. Но для Эли я не стала метать бисер, потому что перед свиньями не стоит, а перед людьми уж больно хлопотно. Она верующая оказалась, а я из колеблющихся-сочувствующих, кишка тонка мне растолковать ей, как забочусь о ближних порасторопнее Неизреченного.
Я перевела дух, полюбопытствовала, как она насчет фаталистических теорий друга, в курсе ли. И тогда она так произнесла красивое слово «сингл», словно сама его придумала, и ничуть ее не коробила идея, она погоняла вино в бокале по кругу и ответила, что так оно и есть для львиной доли человечества. Монро и Достоевских посоветовала не трогать, у них отдельный график, а мы, толпа… не твои ли, мол, недавние слова – в грязи живем, в грязи и дохнем… Я давай отнекиваться – речь ведь была совсем о другой толпе, как можно так переиначить?! Эля теперь уже не улыбалась.
– Толпа – она одна на всех. Разве тебе не страшно от того, как мало дается в этой жизни? Да и одна вершина нам – великое благо посреди беспросвета, разуй глаза! Вы молодые еще. А я вот смотрю на своих друзей – кто ж из них получил то, чего достоин? Погуляли в юности, теперь ярмо на себе тащат – и вся любовь. А кто и умирает медленно, а у кого с детьми драмы… Они для меня лучшие люди на земле – и какой же черствый кусочек счастья им выпал, чтоб годами размачивать…
У Эли блестели веки, и вся косметика сгрудилась в складочках. Я угадала ее трепет – старательно воздевать взгляд к небесам, чтобы не выплеснуть слезки, подкатившиеся к самому краешку, не размазаться совсем. Я вся истомилась от намерений ее утешить и отправить домой с наименьшими потерями, и чтобы на лице читалось скорее «да», чем «нет».
Я решилась на отчаянную ложь: «У Марсика долги…» Ложь не то, что долги, а то, что они ему помеха, но Эля не дослушала мою тонкую нетрезвую конструкцию:
– Еще скажи, что он играет на бирже…
Подошло время поезда.
Вот такая была наша последняя встреча с Элей.
4. Дочь Сатурна
В эру правления Вацлава и золотого тельца у Марса появилась Настя. Редкий типаж. Она являла собой превосходство Марса над прочими планетами, – похоже, Настю слепили на заказ, иначе как объяснить, что природа стерпела такое совершенство. Конечно, в первую очередь царь-девица должна была утереть нос Вацлаву – тому все с матримониальными планами не везло. Поляк у любой кандидатки в подруги прежде всего прочего пытался занять денег. Причем не плевую сумму – просить мало Вацику было стыдно и ни к чему, – он без шуток зондировал благосостояния и сетовал, что больше ему, бродяге, ничего не остается, и сетовал столь беззастенчиво убедительно, что пропитывал атмосферу правотой альфонса: ведь не последний кусочек изо рта какой-нибудь санитарки собирается стянуть, а снять сливочки, излишки. Наплывала медленная ясность: безлошадный Ваца без богатой партии стухнет, сникнет, наплачется. Только Настя его речами брезговала, старательно открывая нам велосипед про мужчину, коему негоже повисать на содержании у женщины. И у мужчины негоже. А мы-то думали, что это модно!
И мы не полюбили Настю. С ней Марсик сделался надменным затворником, пил неигристые сухие вина и взялся ходить в галереи. Два года после Эли он придумывал, как бы отомстить судьбе, и не придумал ничего нового. Настя между тем тоже знала, что такое «играть на бирже», хотя была художницей. Но это вам уже не Эля-бутафор, у Насти картины назывались «Василиск», «Страшный Суд», «Ифигения в Тавриде». Могучие полотна. Глядя на них, я с трудом балансировала под тяжестью опрокинутых канонов: до сих пор в графе «Великая художница» было пусто, разве что изломы и превратности подруги Родена Камиллы, но та скульптор… а тут на тебе – живая и гениальная! Улыбается. Светится. Причем как надо – без фанаберии, с нервозной иронией педанта подсматривающая за недолюбленным делом рук своих. Кто бы мог подумать, что передо мной трогательная мистификация! Настя – она, конечно, картинами баловалась, но все больше авангардом и фантасмагориями. А фундаментальности – это были работы ее отчима.
Впрочем, до меня эта весть дошла длинной тропкой. Уже после того, как Настя примкнула к Вацику. Но и тут Марс замешан – как бы ни презирали сослагательное наклонение. История его не знает, зато я знаю. Видимо, одной угробленной жизни мало, чтобы одуматься. Одна жизнь – еще не улика. Для верности нужна следующая. Дабы убедиться, что имеешь власть, да еще такую, сродни фантомной боли. Сродни собственным ягодицам, которые толком сам не увидишь, только с помощью особой композиции зеркал. Три человека на Марсиковой совести, Настя вторая. Вацлава задело рикошетом. Он жив. Одиночка с двумя детьми. Ему некогда скорбеть. Он заматерел, похорошел, наверняка пролезет куда надо. Он не Элечка и даже не Настя, безвестность для него – самое горькое несчастье. Этому его научил Марс, бог если не войны, то беспокойства. Изредка мы с Вацлавом – теперь, после всего, – видимся, и он угощает меня невыносимым национальным блюдом. То есть он не специально. Он кладет передо мной меню, а я с плохо скрываемым раздражением принимаюсь листать, требуя рекомендации. Все равно я в этой дорогущей хавке ничего не смыслю! Вацлав стервозно мычит невразумительное, и мне приходится самой тыкать пальцем в небо. Хотя не совсем в небо, все-таки одним принципом я руководствуюсь без перебоев: поменьше еды, побольше выпивки. Почему-то на выпивку в заведениях мне денег не жалко, особенно чужих. А поесть можно и без помпы.
Марсик учил: на что не жалко денег, на то не жалко жизни. Я не во всем с ним соглашаюсь. И насчет психоанализа – что он в плохом климате не приживается, – я тоже не поддерживаю.
И вот я быстро пью, а Вацлав медленно ест. У него теперь ни друзей, ни женщин. Одни коллеги, партнеры, рыбки в мутной воде, – все не то, не то. Если бы не марсианская путаница, поляк шел бы и шел себе самоуверенной и крепкой дорогой, как и подобает «твердому искровцу». Но Марс если уж для кого начался, то не проходил, задерживался в дверях, сквозило. А ему что… ведь он ненарочно, его пока держат за фалды, с ним рады… пойти в разведку, даже если вчера хотели убить. Даже если он умер. Вацлав скучает по нему. Что касается пропавшей без вести Насти, то ее он запер в себе на замок. Это простительная боль. А вот как он может тосковать по душегубу – это повергает его в злое изумление. Мы расходимся, хорошо понимая, что хотели сказать друг другу и не сказали. Тоже способ.
Мы остались дороги друг другу как память. Кто бы мог подумать…
Таким образом, Марс убил двоих, а третьего покалечил. Словно авария. Из меня мимоходом сделал… меня. Могло быть хуже, и до «хуже» ничтожный шажок. Если бы я для него значила чуточку больше, он бы убил обязательно. Из мести. Единственное, что он не мог пережить спокойно, – привязанность. Она могла его ставить только в страдательный залог. Действительным залогом он брезговал. Ему это удавалось! Возьмись вдруг я брезговать – черта с два. Впрочем, в морали толстовской Китти о том, что девушке не к лицу желать прохладного к ней господина, я разочаровалась еще раньше, чем получила паспорт. То есть как только мне понравился узколицый канадский фигурист на закате карьеры. Даже если бы мне и вздумалось взглянуть в его маленькие галльские глазки… а у меня и в мыслях не было, я забавлялась шизотимической определенностью: вот и у меня пришла пора, вот и я влюбилась. Степень недосягаемости объекта меня ничуть не огорчала. Другое дело Марс. Категорически не его репертуар. Хотя даже Китти, я думаю, не осудила бы его за безответную любовь – ведь он мужчина, ему как бы даже и положено. Выходит, мы с Марсиком оба не вписываемся – каждый в надлежащий ему образ. Я подавно с моей манерой не приметить слона: взяться за работу, не спросив о цене, заплатить за чай, сахар, килограмм гречки – забыть сдачу, и гречку, и чай, выйти за пластырем – купить черта лысого, даже ликер «Егермейстер», а пластырь начисто из головы вымести. Потом мозоли в кровь, неудачное свиданьице или на важной встрече скажут: «Приходите через полгода». А все оттого, что в кузнице не было гвоздя. И над сложившейся нелепицей возвышается инфернальный «Егермейстер»… являя собой вечное зарождение свежего сюжета.
Что касается Марса, непостижимые его фобии в отношениях взялись ниоткуда. Наследным кронпринцем он не родился, и даже единственным ребенком в семье, и даже не мыкался ни золотушным, ни астматическим, ни хилым. Так чтобы брезгливо отскребать излишки любви шпателем – это вряд ли. Думаю, в детстве он попал к злой старухе из сказки «Карлик Нос». Впечатление мое не было столь бесспорным и стойким, и я не знаю, кто был той старухой, к которой в лапы попадешь на семь лет, а она и не поперхнется. В сказке маленький Яков попадает в семилетнее рабство к страшной носатой ведьме… и через это, как можно догадаться, имеет в итоге почести, и славу, и благоденствие. Готический немецкий оптимизм. Хоть на том спасибо! И вообще, это замес для дитя полезный: дотрудись до мастера, будь кроток и милосерден – и воздастся тебе по заслугам. По сути – отодвигай «вершину», будь она неладна, не торопись. Старуха, разумеется, символ, или, допустим, некий персонаж, снаружи неподарочный, а внутри – драгоценная порода. Благодаря подобному опыту земля наша и качается, как в авоське, над Тартаром, не сверзлась доселе. Не знаю кто, но подозреваю, что был-таки женский персонаж в его детской жизни с инквизиторским абрисом, кто взглядом мух давил. Быть может, не нарочно!
По Фрейду, суровость матери – краеугольная улика, и по нему же, властная мама и мягкий отец – опасная диспозиция для сына. Но что, если на нас столь же сильно воздействуют боковые неродственные персонажи, встреченные в уязвимом возрасте? У меня такой был. И у Марса – тоже. Давайте сознаемся дяде Зигмунду, что он был у всех. И вот получается, что не будь у Марса той таинственной и неизвестной мне травмы, то его внутренний уничтожитель любви, который есть внутри всех нас, не работал бы с такой мощной силой, и Эля уезжала бы в Америку не покинутой, а временно разлученной, и у нее была бы надежда, и она осталась бы жива. А прекрасная Анастасия тем более.
Прекрасная Анастасия с чужими картинами. Отчим ее любил. Он всех любил, святой был человек, как мне рассказывали. Жил-жил кладовщиком, картин своих стеснялся, но подозревал, что подход ущербный, искусство должно принадлежать народу, а труд – вливаться толстой струей в труд республики. Правильный был человек. И вот в жизни его появилась Настя. Уже совсем взрослая. Неземная. То, что доктор прописал. Кладовщик кладовщиком, а промоутерская жилка вдруг проснулась и зачихала в нем, как спящая принцесска. Она согласилась «присвоить» папины художества. Такая девушка – еще и маслом пишет! Ее лицо родилось для успеха. Крушение стереотипов должно было сработать на «ура». Работами заинтересовались проклятые буржуины. Лед тронулся в Датском королевстве. Вопрос – куда. Настя величаво и покорно несла в подоле зародыш славы и вроде вот-вот должна была выйти замуж за иностранца – а чего желать еще было в смутные времена лучшему жеребенку в стаде? Но на тропке потайной на олимп столкнулась лбом с Марсиком. Тот ошивался у подножия и искал легких путей.
В первый же вечер она раскололась, выдала отчимову интригу, покаялась. Марсик набрал полную грудь воздуха, мысленно возблагодарил детскую секцию самбо, куда вовремя определила его родительница, и, зажмурившись, прогнал от себя бесов. Беспомощная душа просилась к нему на постой, с ней надо было поступить благородно. По самбо у Марса был трогательный учитель с евангельской закваской, он все больше силу духовную пестовал и зло искал в себе, чего желал и питомцам. И кто бы сомневался: идеальный бой тот, что не случился, потому что мимо стаи отморозков иди, возлюбив ближнего… и кому больше прощается, тот больше верит, и будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби, etc. Забавный, он мнил себя атеистом и лицедейски умалчивал, кого цитирует. Впрочем, допускал с интонацией прогрессивного доцента, что Иисус, Мухаммед и Гаутама – исторические личности. Оно, может, и верно, хотя Духа Святого назвать исторической личностью я бы не рискнула, что, по совести говоря, не мое дело, а богословское… Словом, механизм вытеснения у солнечного самбиста работал отменно, жаль, что он не перекрыл по значимости «злую ведьму».
Умолкаю на сей счет. Не мое собачье дело и даже не богословское. Просто память хранит артефакты. Когда Марса не стало, о нем думается без табу. О нем и о Насте, которую угораздило пройти его насквозь. Вначале она угодила в плодородную сущность, потом в пустыню. В пустыню лезть не стоило, в ней носились жестокие мысли. Не всегда нужно доходить до самой сути, иной раз не мешает вовремя вынырнуть на свет и перекреститься. Насте же не терпелось прояснить, есть ли жизнь на Марсе. И под Марсом, и около. И на солнечной его стороне, и на пинкфлойдовской dark side. Был в Насте странный нездоровый лоск. Она мертвых никогда не видела – ни людей, ни собак, ни кошек. И в доме таком жила, где никто не умирал по красивой случайности. Сюжет счастливый, нетронутый, но невозможный. Как она умудрилась… в детстве голубей не хоронить! Помню, мы тогда нашей птичке крестик из веток смастерили и венок сплели из помойных семицветиков, дети первобытно воодушевляются ритуалом… Неправильно это – козырять невинностью перед Танатосом, все ж там будем, даже самые ослепительные вроде Светличной из «Бриллиантовой руки». Если Насте удалось миновать печальной встречи, выходит, она непроизвольно брезговала. А это предательство ушедших.
Но что я, право, к ней прицепилась, повезло девочке – и славно! Я к тому моменту тоже не сказать чтобы сильно опытная была. Но я видела. Однажды лет в пять, когда в бабушкиной деревне умер уважаемый и неизвестный мне от загадочного слова «белокровие». А похороны в тамошних краях – на всю округу, оркестр, ордена несут на подушках, женщины рыдают, жара, жуть… С тех пор народные праздники не выношу. Нет-нет да затарахтит где-нибудь военная мелодия, а мне сразу так муторно, так тошно, и река времен, смывая нажитые фьорды, все скитания и университеты, волочет мне из бездны те подушечки красные, и зной, и пот, и долю человеческую размером с черный платок…
Откуда я знала про Настину танатофобию? Да подслушала. Мне ведь жуть как интересно, как люди меж собой говорят, все их обывательские драмы. Слышу, как Настя Марсу лепечет: не пойдем к госпоже такой-то, там мертвечиной несет. По совести говоря, я не знала, о ком там шла у них с Марсиком речь, но на всякий случай про себя окрысилась. Сама ты, думаю, мертвечина, восковая Настя с золотистым напылением вместо эпидермиса! Типун мне на язык бы, да поздно теперь. Мне бы примириться с ней от души. Почитают заблуждением, что благой жест меняет фабулу до неузнаваемости. Я же думаю, что чудо – только чье-то смирение, сохраняющее равновесие обеих подставленных щек. Только в нем спасутся все невыносимые Анастасии. И всетерпение часто бессильно, но это не значит, что в руке пустая карта, иной раз и поражение имеет смысл: не уберегли – но хотя бы уберегали, и птенчику было тепло. Джек Николсон в «Гнезде кукушки» говорит: «Я хотя бы попытался…» Из множества попыток одна в яблочко, даже если все они поперек буржуазных ценностей, такая вот выходит революционная ситуация задним умом. Не хватило мне пороху христианского на Марсову диву, я ж не знала, что будет, и не знала, что было, – про ее бескорыстный плагиат, – почитая прекрасную Анастасию за родню куклы Барби, за персону из рекламной сказки про жизнь. А она вон что!
Гнилой ход выбрал добрый отчим. Все скрытое опаснее открытого, кроткий дьявол страшнее отпетого. Марсик объяснял ей, что так нельзя, бросай, мол, это дело, ты же сама рисуешь, у тебя… он оскорбил ее словом «задатки». Не знаю, как Настя, а я бы фыркнула: ты, никак, старик Державин, чтобы сверху одобрять, – задатки-придатки, понимаешь! Девица без того своих опытов стеснялась, что Марса злило в ком угодно. Тернистый клубок, и кто мог предречь, что распутает его для меня Вацлав. Как тут не перефразируешь дражайшего Булгакова про людей, что откровенны, и, главное, откровенны внезапно. Ваце было врать без надобности, он к тому моменту давно уже утерял мятежное вдохновенное единомыслие с давешним братом по духу, дающее почву для всевозможных фальсификаций. Правда, обрел новый мотив, но о том позже, все равно он им не пользовался – в его устах и компромат не компромат: он видел, как Марсище бьет Настю по щекам, – но ведь ради науки, как еще из зомби дурь выбить. Не выбил! Она слушалась папу-отчима, он умолял не разоблачать его до срока, ведь скандалить нужно вовремя. Кладовщицкая сермяжная хватка! Она бы осталась в истории трагической графоманской возней, если бы теперь былому кладовщику не поперла масть. Болтают, что полотна его облюбовала знать, корпорации и все те же неближние гости столицы. Меня даже ангажировали заглянуть в одно посольство и оценить отчимову живопись на почетном месте, но мороз по коже продрал от будущей экскурсии, я уклонилась. А что, если это все-таки Настенькиной рукой писано, такой вот перевертыш? Молчание было мне ответом. Неудивительно: после случившегося это имя не бередят, а меня упрекают в борьбе за несуществующие права несуществующих индейцев. Но уж увольте от Сатурнов, пожирающих своих детей, пусть даже и неродных, пусть и не пожирающих, а так выходит из моей хлипкой обвинительной прихоти.
Впрочем, вся история с подменой авторства для непосвященных в увертюру граничит с плацкартной байкой вроде «в курсе ли вы, господа, что песню «Годы летят стрелою» написал не Макаревич?». В курсе, ну и что? Тот, кто написал, права качать не собирается. Дай бог, чтобы жив был. Права на экранизацию его биографии пока не купила ни одна «Парамаунт». А жаль. Но вот «Ифигению в Тавриде» уже купили. Хотя только ленивый ее «Офигенией в ставриде» не обозвал. Буржуям-то все равно, а для нас, пограничных детей эпохи, ставрида – самый дым отечества. В наших с Марсиком городах вместо мавзолеев царили ЦГ. Центральные гастрономы. Скудные районные Вавилоны с консервными пирамидами, с эмалированными усыпальницами для глыб цвета твердого гноя – жиров и маргаринов, мерзлых кубов мойвы. Времена рыбы! Одни рыбки – из неприкасаемых – куковали с нами, другие лоснились в мечтах. Они, точнее, она называлась балыком. Лет до шестнадцати я почитала ее самой серьезной рыбой на земле, кликуха у нее угрожающая, как у хана, я думала, что она и была Золотой…
В лучшем для меня отделе, кондитерском, выбор был побогаче, и то, не ровен час, снова пирамиды, только из коробок с сухарями, и продавщица затерялась, словно детей делает с грузчиком, чуть отойдя от кассы.
Казалось бы, нам, ротозеям, какая разница, кто чью песню поет, лишь бы выводил душевно. Редко кого тревожит, что если Икс поет песни Игрек, то по житейскому обыкновению из них двоих один норовит сгинуть, а другому вся маржа под хвост попадает. Икс на коне, Игрек в забвении или, напротив, Игрек фореве, Икс починяет примус. В лучшем случае делят меж собой славу и деньги, кому что больше нравится, – если, конечно, они вольны распоряжаться участью. Даже патриархи не всегда вольны. Лука, Матфей, Соломон, Иеремия, etc. – группа, прости, Господи, товарищей, чьих откровений дело – самая популярная книга на земле, и что же они имели? Подозреваю, что nihil. Но златоусты довольствовались Царствием Небесным, им наши пошлые искушения как слону дробина, а вот касаемо наследников – вопрос. Возможно, и нет среди них благолепного единодушия, но никто пока голос не подал. Значит, наследственность не подкачала. Нам, муравьям, тем более стыдно роптать. Все великое и лучшее родилось безвозмездно, пусть бы Игрек остался горд на свой манер, Икс – на свой. Однако Настя попала совсем в другой переплет, хоть и не тщилась войти в большую игру, она, как патриархи, – еще раз прости, Господи, – не за славу и не за деньги, за что же ее было наказывать? Но пока Марсик ее спасал, она казалась идеальной и вредной. Благополучие, оно же забвение о неблагополучии сирых и недолюбленных, а проступить тревоге на лице ее мешала заданная программа. Посему мы, не приближенные, не подозревали о драме, завидовали себе спокойненько и прохладно. Марс на самом деле за вершину свою отдувался, неловко ему было за Эльвиру Федоровну перед Анастасией. Бывает. У многих. Но у Марса все было чересчур и зашкаливало в противоположные страсти. Но это уже общее место – детская амбивалентность, кого спасаю – замурыжу до смерти, это все известно и легализировано классикой мелодраматического жанра. А толку!
В итоге коллизии были прикрыты ростом благосостояния. А если учесть, что Марс обожал вводить в заблуждение, даже не только из-за выгоды, а из любви к искусству, то я поверила Ваце на все сто. Глупая воспаленная планета, якобы такая близкая, что человечество вечно планы на нее имело. Вот кто точно не «как патриарх», кого торкали и слава, и деньги, – но дискретно, непредсказуемо, как придурочный петух в одно (да в любое!) место клюнет, – так и торкают, а в промежутках – душа алмазная, Дарвин, теории, все дела. Главное – гениальный сводник, кого надо с кем надо сводил, – и через это выходили правильные дела, дети, альянсы. Настя пропала без вести, а отчим попер в гору – и все началось с Марсика…