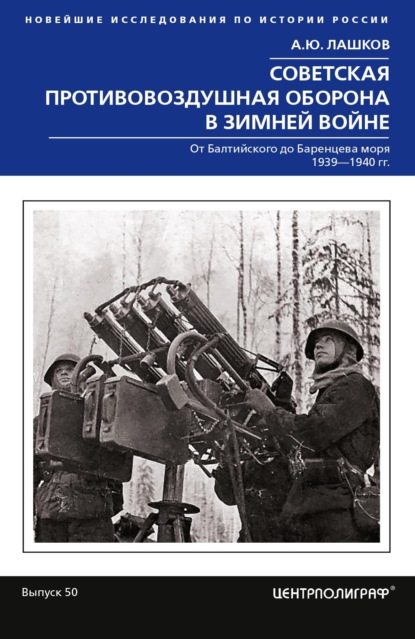Полная версия
Феномен Александра Невского. Русь XIII века между Западом и Востоком
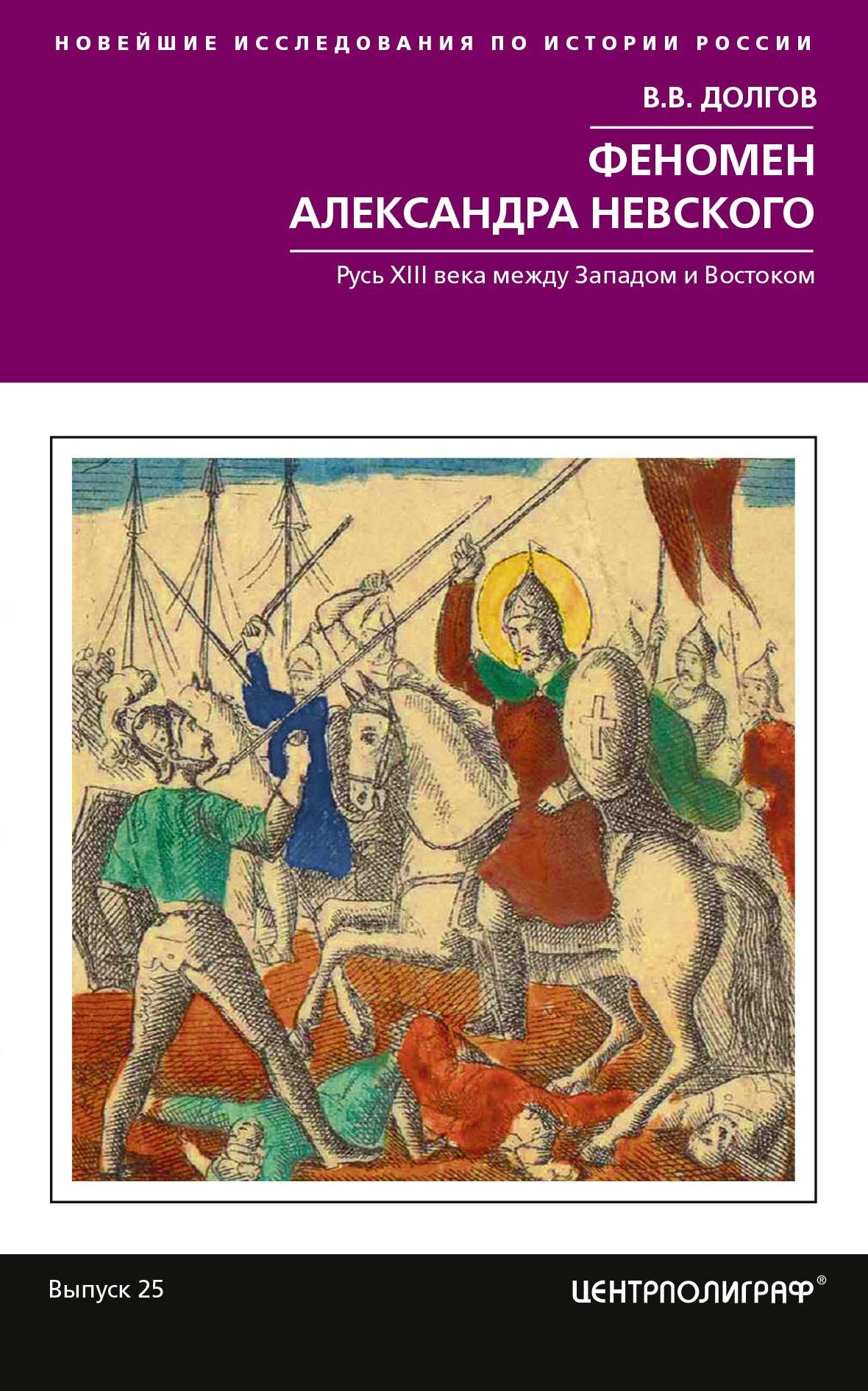
Вадим Викторович Долгов
Феномен Александра Невского
Русь XIII века между Западом и Востоком
© Долгов В.В., 2020
© «Центрполиграф», 2020
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2020
Введение
Биография Александра Невского в последнее время стала предметом бурных дискуссий: не всегда серьезных, но всегда шумных. Почему это произошло именно в настоящее время – понять нетрудно. На протяжении столетий общество развивалось более или менее поступательно – новые культурные формы последовательно сменяли старые.
Христиане ниспровергали язычество, коммунисты, в свою очередь, ниспровергали христианство, а либеральные демократы в России стремились порвать с коммунистическим прошлым. При этом из разрушенного универсума отбиралось ценное, то, что можно было использовать в рамках новой мировоззренческой системы. Таким образом обеспечивалась преемственность и упомянутая поступательность. Образ «святого князя-воина» (не именно Александра Невского, а вообще), сформировавшись в языческую эпоху, был воспринят христианством, а затем стал органическим элементом патриотического мировоззрения советской эпохи. Но затем все поменялось.
Отличительной чертой эпохи постмодерна стал мультикультурализм и ценностный релятивизм. Появилось пространство для умственной игры и разнообразной деконструкции прежних культурных образов, или, говоря модным языком социальной антропологии, мемов. Если раньше проповедник нового учения, высвобождая место для своих идей, яростно и, что важно, убежденно громил предшественников и оппонентов, то на новом витке исторического развития возник новый вид деконструкции. В ней нет былой серьезности и горячности. Это тотальная деконструкция, цель которой не является идеологической в строгом смысле слова. Во многом это желание сломать то, что ломается, и обесценить то, что обесценивается «просто так», «для интереса», just for fun. Кроме того, этот вид деконструкции преследует цели, которые можно назвать исследовательскими. Однако не в былом академическом смысле. Так ребенок, ломая игрушку, безусловно движим желанием узнать, что у нее сокрыто внутри. Однако есть в этом желании «проанализировать» и некоторая доля варварских эмоций упоения разрушением. Этот аспект «деконструкции» тоже нельзя сбрасывать со счетов.
В полной мере затронули эти процессы и историческую сферу. Я не говорю про «науку», ибо эти процессы распространяют свое влияние далеко за пределы академических кабинетов. Они затронули историческую память, школьное обучение и массовую художественную культуру. Современный «исследователь» – это любознательный ребенок, вооруженный хирургическим ланцетом.
Коснулся этот ланцет и образа князя Киевского, Владимирского, Новгородского и всея Руси Александра Ярославича Невского. «Князь? Святой? А ну, иди сюда! Грешки есть? А если найдем?»
Попытка очистить полотно «исторической реальности» от «напластований исторического нарратива» привела к тому, что в порыве энтузиазма исследователи и «исследователи» стерли весь красочный слой до тканой основы. На месте образа князя, знакомого нам по школьным учебникам (и уже поэтому несколько подозрительного), обнаруживается пустое место, размытое пятно, лишенное всякой определенности. Обнаружив это созданное их же усилиями зрелище, ученые реагировали по-разному. Одни патетически объявляли себя ниспровергателями замшелых догм и революционерами в науке. Другие, ударяясь в противоположную крайность, стали апологетами едва ли не религиозного типа. Пытаясь всеми силами спасти пострадавшую картину, они вовсе отказались от исторической критики.
Истина, как это часто случается, лежит посередине. Критически смывая позднейшие напластования «нарратива», важно вовремя остановиться. Определить тот слой, который можно (пусть и с определенной долей гипотетичности) считать наиболее близким изучаемой эпохе, наиболее информативным с исторической точки зрения. Кстати сказать, сами эти «нарративы» – тоже не пустяк. В них содержится немало интересного если не об Александре Невском, то об особенностях исторического сознания и коллективной памяти. Если присмотреться к механизмам их нарастания на историческую основу, можно многое понять об этой самой основе. Основе, которая явлена нам в целом комплексе средневековых текстов. Увы, пока машина времени не изобретена, ближе к исторической реальности нам не подойти. Но даже если вдруг представить, что такое изобретение будет сделано, исторических споров это отнюдь не прекратит. Каждый путешественник, посетивший прошлое в «историческом скафандре», будет описывать что-то свое, как это случается и с реальными путешественниками, посетившими одну и ту же страну: один видит процветающий край, а другой, стоявший рядом, описывает нищую пустыню. Современные историки могут считать большой удачей, что первоначальный отбор и обработка информации уже проведены современниками изучаемых событий. Особенно если речь идет о средневековой эпохе. Ученые вступают в диалог со средневековыми авторами. Диалоги эти подчас бывают весьма забавными. Историки спорят с современниками, перебивают их, пытаются доказать, что они, сидючи в XXI веке, лучше знают, что происходило в веке XIII. Однако, так или иначе, совместными усилиями историки и современники реконструируют прошлое.
Понятно, что полученный результат в любом случае нельзя будет считать прямым отражением исторической реальности. Но это единственно плодотворный путь, проходящий между крайностями гиперкритицизма и квазирелигиозной апологетики.
Попытке найти этот путь посвящена настоящая книга. Она посвящена не только разбору биографии князя, о которой все известно весьма неплохо, но и анализу тех текстов и историй, то есть, собственно, того самого «нарратива», который был создан вокруг и по поводу его личности за прошедшее время. Серьезных научных работ, посвященных Александру Невскому и его эпохе, в последнее время выходит немало[1]. Поэтому автор счел необходимым уделить больше внимания современным «альтернативным» версиям и разнообразным «деконструкциям», которыми наполнено около-историческое информационное пространство. Надо сказать, картина в результате «деконструкции деконструкции» получилась не слишком скандальная. Она в гораздо в меньшей степени отличается от «иконописного» оригинала, чем это было бы необходимо для приготовления острого блюда из «жареных» фактов. Князь как князь. Нормальный политический деятель XIII века в контексте суровой эпохи. Если есть желание прочитать леденящую кровь историю о том, что «в реальности все было не так, как на самом деле», то это книга не для вас, лучше сразу отложить ее в сторону. Книга рассчитана на аудиторию, готовую вместе с автором вникать в мелочи и тонкости и строить сложные модели реальности.
Глава 1
Русь в XII–XIII вв
Русь – крупнейшее политическое объединение средневековой Европы. В науке давно шел спор, насколько правомерно считать Русь единым государством, насколько оправдано утверждение о существовании единой древнерусской народности и древнерусского языка. Теперь, на фоне русско-украинского конфликта, эти споры приобрели особую эмоциональность. Казалось бы, современный русско-украинский конфликт может иметь к академической истории Древней Руси не больше отношения, чем сооружение заградительной полосы между США и Мексикой к изучению древних цивилизаций Мезоамерики. Однако политически вовлеченные энтузиасты тащат современную политическую повестку на страницы научной и учебной литературы, в очередной раз подтверждая истину, афористично сформулированную академиком М.Н. Покровским: «История – это политика, опрокинутая в прошлое».
И вот уже проводится конференция под названием «Украинско-российские отношения периода Средневековья». Причем конференция, по заявлению организаторов, приурочена к 850-летней годовщине взятия Киева войсками Андрея Боголюбского в 1169 г. Степень абсурдности подобной постановки проблемы уже почти перестала удивлять. Такими темпами «ученые» дойдут до проведения конференции «Отношения между СССР и США периода раннего Средневековья» или «Осада и взятие Иерусалима войсками стран НАТО в 1099 году».
Политическая возня, развернувшаяся вокруг темы политической и культурной интеграции русских земель домонгольского периода, создает определенные помехи для решения этого вопроса. Но в целом наука располагает достаточным количеством источников, чтобы решить большую часть возникающих вопросов.
Была ли Русь единым государством? Была, несомненно. Понятно, что институт государства, как и все социальные институты, должен рассматриваться исторически. Средневековое государство отличается от современного так же, как отличается от современной средневековая семья, средневековая денежная или школьная системы. Но с поправкой на специфику эпохи, наличие единого политического образования вполне очевидно. Что связывало различные русские земли в единую политическую систему?
Во-первых, род Рюриковичей, который коллективно владел территорией Руси и весьма ревностно охранял свою монополию на власть. Единственный раз в летописи встречается ситуация, когда их монополия на княжеское достоинство была поставлена под сомнение: новгородцы просили у Святослава князя себе, а никто из его детей не захотел ехать. Послы пригрозили: «Аще не поидете к намъ, то налезем князя собе»[2]. Все, однако, разрешилось благополучно – в Новгород поехал Владимир. Описанный случай является, конечно, исключением, лишь подтверждающим правило. Поведение новгородцев можно объяснить, во-первых, нетвердостью обычая, связывающего род Рюриковичей с Русью: Владимир был представителем всего лишь четвертого поколения. Во-вторых, близостью Скандинавии, откуда, при необходимости, можно было призвать еще какой-нибудь княжеский род, как в свое время был призван сам Рюрик. В более поздние времена вопрос даже не ставился. Был, правда, случай, когда князем попытался стать галицкий боярин Владислав Кормиличиц. Выгнав малолетнего Даниила Романовича с матерью из города, он принялся править вместе со своими товарищами Судиславом и Филиппом. Собравшиеся на совет король, владимирские бояре, княгиня, вдова Романа, князья презрительно говорили: «Володиславъ княжится»[3], а не «княжит». После чего не по чину возвысившийся боярин был «ят» и мучим.
Единство русских земель поддерживалось не только генеалогическим единством правящего рода, но и принципом лествичного восхождения, согласно которому князь, начав свое княжескую карьеру в маленьком городе одной части Руси, по ходу жизни успевал побывать в качестве князя во всех остальных ее частях. Так, например, дед нашего героя – Мстислав Мстиславич Удачный, начав восшествие по княжеским ступеням с маленького южного Треполья под Киевом, затем перебрался в Торопец (современная Тверская область), долгое время правил в самой северной русской столице – Новгороде, не меньше в самой юго-западной – Галиче, и закончил жизнь в Торческе – почти там, где начал, в пятидесяти километрах от Треполья. Ни один читатель летописи в здравом уме не разглядит в его перемещениях переход из одного самостоятельного государства в другое. Это игра на единой шахматной доске, которая целиком входит в зону внимания русских летописцев. Региональные летописные традиции, появившиеся в XII в., конечно, имеют вполне понятный дифферент в сторону местной событийной канвы и демонстрируют очевидный региональный патриотизм. Но при этом никогда не выпускают из виду общерусский общественно-политический поток, который для них выступает верхним таксономическим пределом. То есть, например, для новгородского летописца события, происходящие в Киеве или Владимире, соединяются в единую событийную цепочку с тем, что происходит в Новгороде, а вот скандинавских, польских или византийских событий он практически не видит и в повествование не вплетает.
Не менее четко институализированный признак – церковная организация. При крещении была создана киевская митрополия. Предстоятель носил титул митрополита Киевского и всея Руси. Пространство, на которое распространялась власть русского митрополита, было определено вполне четко, ведь на нем осуществлялась его административная деятельность. В отличие от государства, которое пережило во второй половине XII в. дробление, церковь оставалась вполне монолитной иерархической структурой.
Географические координаты Руси в источниках определены вполне конкретно в тексте XIII в. «Слово о погибели земли Русской»: «О, светло светлая и украсно украшена, земля Руськая! <…> Отселе до угоръ и до ляховъ, до чаховъ, от чахов до ятвязи и от ятвязи до литвы, до немець, от немець до корелы, от корелы до Устьюга, где тамо бяху тоймици погании, и за Дышючимъ моремъ; от моря до болгаръ, от болгарь до буртасъ, от буртасъ до чермисъ, от чермисъ до моръдви». Русь на севере выходит к «Дышючему» морю, то есть к Северному Ледовитому океану. На востоке граничит с землями восточнофинских племен (мордвы и марийцев), а также с землями тюрков – болгар. Важным географическим ориентиром является город Устюг, который в те времена был городом на северо-восточном пограничье. Как видим, земли Северо-Восточной Руси никак особо автором «Слова» не выделяются. Русь представлена монолитным образованием, вызывающим уважение сопредельных народов и стран.
Есть и несколько более поздний источник «Список русских городов дальних и ближних», относящийся к XIV в. География этого списка включает в себя весьма обширные пространства от Черного моря до Балтийского[4].
Таким образом, серьезных сомнений в том, что представляла собой Русь в территориальном и государственно-политическом смысле, нет.
Несколько сложнее вопрос с этническом и, шире, социально-психологическом содержании этого термина. Осознавали ли люди Древней Руси ее как целостность даже в те времена, когда территория эта была разделена между разными княжениями? И вопрос еще более существенный: как формировалось сознание групповой общности? В каком качестве Русь существовала в умах современников: как этнос или как конфедерация самостоятельных государств, соединенных только единой княжеской династией и властью митрополита Киевского? Вопрос принципиальный, ведь подчас сознание групповой общности – единственная связующая нить, составляющая источник жизни социума тогда, когда более «материальные» связи по тем или иным причинам «не держат». Более того, в ретроспективе особенно явственным становится факт, что чаще всего в определении границ исторических общностей иных критериев, кроме существовавших у людей представлений о том, где они пролегают, просто нет[5]. По словам Л.Е. Куббеля, «в обществе доклассовом, особенно на ранних стадиях и в пору расцвета родового строя, в силу нерасчлененности общественного сознания людей такого общества потестарное и этническое сознание практически совпадают. Более того, этническое сознание и самосознание в доклассовом обществе может выполнять, по существу, потестарные функции»[6].
Кроме того, проблема осознания общности напрямую связана с темой древнерусского патриотизма, горячо обсуждаемой именно в связи с Александром Невским. Можно ли считать Александра защитником Руси? Или объектом его защиты была «вера православная». Именно такой точки зрения придерживается видный историк русского Средневековья И.Н. Данилевский. По мнению И.Н. Данилевского, князь Александр Невский не может считаться «защитником Родины», ибо в общественном мировоззрении XIII в. такой идейной конструкции не существовало. С этим нужно согласиться: в древнерусских текстах подобного словосочетания мы не найдем. Однако справедливо и то, что единое в структурно-функциональном смысле представление о Родине может быть выражено в разных образах. Если книжник XIII в. пишет о «защите христианской веры», точно ли христианскую веру в техническом смысле он имеет в виду? Или под этим выражением скрывается нечто иное?
В связи с этим особенно важным представляется задача уяснить, как осмыслялось существование русской общности на самых ранних этапах ее существования, в эпоху, когда Русь переживала период становления государства и этноса (а стало быть, не имела в полной мере ни того ни другого), а русские книжники делали еще только первые попытки осмыслить феномен ее появления на мировой арене. Рассмотрение этого вопроса особенно важно еще и потому, что, как уже говорилось, на Руси образованная «книжная» элита выполняла консолидирующую функцию и была носителем этнического своеобразия. Как то бывает нередко, на Руси именно интеллектуалы раньше всех других сделали шаг к построению этнического самосознания. Русь отличалась в этом отношении от Западной Европы, где, по мнению Марка Блока, «чувство национальности» вызревало не в среде людей образованных, существовавших в контексте латиноязычного универсума, а в кругах более примитивных[7]. Таким образом, рассматривая «книжное» осмысление Руси, мы тем самым приближаемся к пониманию процесса формирования этнического самосознания в целом.
Вопрос этот имеет довольно обширную литературу, в которой процесс оформления идеи Руси как общности рассматривается в ключе становления этнического самосознания. В статье «Этническое самопознание и самосознание Нестора Летописца, автора „Повести временных лет“» Н.И. Толстой предложил условную парадигму или сетку-модель характеристики славянского самосознания, включающую следующие компоненты-показатели: 1. Религиозный. 2. Общеплеменной. 3. Среднеплеменной. 4. Частноплеменной и 5. Государственный. По мнению ученого, у Нестора религиозное сознание – христианское, общеплеменное – славянское, среднеплеменное – русское (которое, правда, «еще созревало и не занимало ключевой доминирующей позиции»), частноплеменное – полянское, и государственное – «причастность к Русской земле». «В процессе исторического развития тот или иной показатель становится доминантным, и эта система доминант и их взаимного соположения характерна для истории и развития национального самосознания каждого славянского народа»[8].
При общей стройности модель Н.И. Толстого обнаруживает, однако, ряд существенных недостатков. Как ни странно, хуже всего она работает именно на восточнославянском материале (очевидно, именно поэтому Н.И. Толстой для примеров использовал ляхов-мазовшан и поэзию Николая Клюева, а не собственно днепровских полян). Во-первых, вне зависимости от того, является ли «Русь» этнонимом местного днепровского или пришлого скандинавского происхождения, в любом случае генетической связи между Русью и, например, дреговичами нет. И здесь вряд ли существенно меняют дело оговорки по поводу «еще созревающего» компонента, так как в отношении тех же лютичей, мазовшан и поморян речь идет именно о происхождении от ляхов («Словени же ови пришедше седоша на Висле и прозвашася Ляхове, а от тех Ляхов прозвашася Поляне, Ляхове друзии: Лутичи, ини Мазовшане, ини Поморяне»[9]), в то время как днепровские поляне, древляне, северяне и пр. в трактовке ПВЛ происходят прямо от славян. «Созревать» здесь, собственно, нечему. «Русь» и «ляхи» для летописца – понятия совершенно разных порядков. Во-вторых, «среднеплеменной» и «государственный» компоненты в указанной модели дублируют друг друга – в обоих случаях фигурирует «Русь», «Русская земля». В принципе это, очевидно, должно означать, что в рамках политического образования формируется этническая общность, но ясности в понимания особенностей мировоззрения летописца это не добавляет, так как остается неясно, что же для Нестора «Русь» – народ или политическое объединение?
Слабое звено рассмотренной концепции, как кажется, заключается в том, что Н.И. Толстой пытался приписать мировоззрению летописца ту строгую логичность, которой в его произведении не было и быть не могло в силу особенностей мышления средневекового человека, для которого было характерно гораздо более свободное построение логических связей, чем то привычно современному человеку. «Историко-этнографический» очерк, которым открывается ПВЛ, сам по себе очень противоречив. Прежде всего потому, что, как было уже сказано, он не является в действительности «историко-этнографическим», а скорее историко-богословским очерком. Анализируя очерк, следует иметь это обстоятельство в виду. Исследуя самосознание, следует по возможности стараться в большей степени следовать ходу мысли исследуемого объекта, так как, подходя к материалу с заранее заготовленным жестким трафаретом (в данном случае – это понятие «этническое самосознание»), мы рискуем увидеть сквозь намеченные нами «окошечки» картину либо искаженную, либо вообще вполне бессмысленную и лишенную внутренней логики.
Попробуем рассмотреть имеющийся материал, используя понятия, близкие тем, которыми оперировал сам летописец, и следуя его программе раскрытия вопроса «откуда возникла Русская земля».
Следуя логике летописи, мы видим, что, желая определить место Руси в мире, Нестор первым делом вписывает ее в библейскую классификацию, производящую три большие части человечества от сыновей Ноя – Сима, Хама и Иафета (Бытие, 10: 5). Таким образом, первая координата, первый компонент самосознания летописца – отнесение Руси к «жребию Афетову»[10].
Обращение летописца к этой классификации не стало лишь эпизодом развития книжной традиции. Представление о Руси как стране потомков Иафета закрепилось в самосознании. Свидетельством этому служит тот факт, что спустя столетия в памятнике севернорусской, новгородской исторической мысли XVII в. «О истории еже о начале Руския земли и создании Новограда и откуду влачашеся род Славенских князей» эта сугубо библейская конструкция предстает перед нами в «доработанном» местными мыслителями виде. По сути, мы имеем дело с абсолютно новой историко-мифологической конструкцией, в которой привнесенного славянского (новгородского) уже гораздо больше, чем изначального библейского. По этой легенде, вошедшей во многие памятники письменности XVII в., Новгород изначально назывался Словенск Великий и был назван так в честь его основателя Словена, родоначальника славян, и потомка Скифа, который, в свою очередь, был Иафетовым правнуком[11]. Помимо авторитета христианской традиции, на использование именно этой «координаты» в качестве начальной в ПВЛ, очевидно, оказало влияние еще и то, что построена она была на элементарном генеалогическом принципе, близком и понятном человеку раннего Средневековья, едва вышедшему из родовой эпохи. Летописная концепция, возможно, была выстроена в противовес языческим представлениям, зафиксированным «Словом о полку Игореве», согласно которым Русь мыслилась как «жизнь Даждь-Божа внука»[12], то есть, по сути, как наследие потомков Даждьбога. Языческой мифологии была противопоставлена, таким образом, мифология библейская (противопоставлена, как показывает «История» о Словене и Русе, успешно).
Следует отметить, что уже на этом этапе рассуждения летописца с точки зрения строгой формальной логики не вполне безупречны. Во-первых, начав перечислять народы «жребия Афетова», он, не завершив списка, прерывает его, а затем начинаются дополнения, открывающиеся фразами «Въ Афетови же части…», «Афетово бо и то колено…»[13]. Во-вторых, некоторые народы (в том числе и русь) в списке повторяются. В науке неоднократно предпринимались попытки обнаружить в данном перечне логику. Одна из последних, весьма основательных, предпринята В.Я. Петрухиным[14]. Им проанализирован перечень народов, данный в ПВЛ после вводной фразы «Афетово бо и то колено…», где перечислены: «варязи, свеи, урмане, готе, русь, агляне, галичане, волхва, римляне, немци, корлязи, веньдици, фрягове». По его мнению, «варязи» и «волхва» – это общие наименования групп народов, которые перечисляются следом[15]. То есть список имеет следующую форму: «ВАРЯЗИ: свеи, урмане, готе, русь, агляне, галичане; ВОЛХВА: римляне, немци, корлязи, веньдици, фрягове». Однако в этом случае остается не совсем понятным положение в нем «галичан», которые, кажется, более уместно смотрелись бы в списке народов, находившихся в орбите «волхвы». Тем не менее, несмотря на отсутствие полной ясности в рассуждениях летописца на этом первом этапе, бесспорным остается, что первая, наиболее общая координата происхождения и славян и Руси (на этом этапе у летописца нет необходимости дифференцировать эти понятия, так как и те и другие происходят от одного корня), – это их генеалогическая связь с потомством Иафета.
Следующий смысловой блок, который может быть без существенных натяжек выделен из рассказа летописца, посвящен определению соотношения понятий «славяне», «поляне», «варяги» и «Русь». Современному формально-логически рассуждающему читателю из объяснений летописца так или иначе понятными оказываются следующие положения.
Во-первых, славяне, происходящие от Иафета и первоначально жившие на Дунае, по прошествии лет разошлись по земле и приобрели различные имена, оставшись при этом общностью, связанной единством происхождения, языка и грамоты (то есть письменности и, может быть, литературного языка).