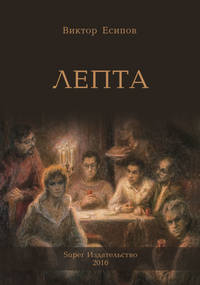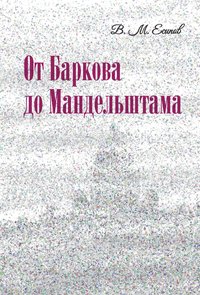Полная версия
Мифы и реалии пушкиноведения. Избранные работы
И здесь возникает ряд вопросов.
Во-первых, можно ли считать эту редакцию в полном смысле слова пушкинской? Ведь, как известно, возникновение беловой редакции являлось для Пушкина важным этапом творческого процесса. Беловой автограф чаще всего вновь подвергался правке, в него вносились исправления и уточнения, то есть работа над текстом получала продолжение.
В нашем же случае пушкинского белового автографа четырех строф нет (его за Пушкина выполнил Бонди), нет, соответственно, и дальнейшей правки белового текста, которая, вероятнее всего, имела бы место у Пушкина.
Поэтому, по нашему представлению, реконструированный Бонди текст считать в полном смысле принадлежащим Пушкину все-таки нельзя: Пушкин этого текста не записал набело, он оставил нам лишь исчерканный черновик.
По-видимому, мы имеем здесь дело с одним из тех случаев, которые имел в виду Ю. Г. Оксман, отмечая перегруженность академического собрания сочинений Пушкина «материалами пушкинского фольклора и произведениями Бонди, Томашевского, Зенгер и даже Медведевой»71, то есть мы имеем в данном случае не совсем пушкинский текст.
Во-вторых, не является ли отсутствие пушкинского белового автографа свидетельством того, что проступающий в черновике (и реконструированный Бонди) текст не мог удовлетворить Пушкина по своим художественным качествам?
Думается, так оно и было.
А через некоторое время Пушкин (вероятно, по памяти) извлек из черновика лишь две первые строфы и, существенно изменив первую из них, создал стихотворение «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», которое он отдал в «Северные цветы». Известны три беловых автографа этого стихотворения, причем один из них полностью повторяет текст печатной редакции, а два других имеют следы незначительной правки (попытка продолжить работу над уже законченным текстом!).
В редакции же Бонди четыре строфы, приведем ее полностью:
Все тихо. На Кавказ идет ночная мгла.Восходят звезды надо мною.Мне грустно и легко. Печаль моя светла;Печаль моя полна тобою.Тобой, одной тобой. Унынья моегоНичто не мучит, не тревожит,И сердце вновь горит и любит – оттогоЧто не любить оно не может.(Прошли за днями дни. Сокрылось много лет.Где вы, бесценные созданья?Иные далеко, иных уж в мире нет —Со мной одни воспоминанья.)Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь,И без надежд, и без желаний,Как пламень жертвенный, чиста моя любовьИ нежность девственных мечтаний72.Далее идут довольно противоречивые рассуждения Бонди.
С одной стороны, он признает, что эти четыре строфы нельзя считать «цельным, законченным стихотворением», и объясняет почему: «Третья строфа недаром вычеркнута Пушкиным, и переход от нее к четвертой звучит несколько натянуто. Может быть, вернее считать эти строфы своего рода ”заготовкой“, материалом для стихотворения. Из них, как сказано выше, две первые Пушкин напечатал под названием ”Отрывок“»73.
С другой стороны, казалось бы, объяснив, почему Пушкин напечатал только две первые строфы (существенно переработав первую), он вдруг привлекает для обоснования этого достаточно мотивированного по творческим соображениям решения совершенно иные, внетворческие причины: «Можно сделать довольно вероятное, как мне кажется, предположение о том, почему он не печатал окончание стихотворения. Только что добившемуся руки Натальи Николаевны жениху-Пушкину, вероятно, не хотелось опубликовывать стихи, написанные в разгар его сватовства и говорящие о любви к какой-то другой женщине (“Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь”). В напечатанных же первых двух строфах этот мотив – новое возвращение прежнего чувства (“И сердце вновь горит и любит оттого”) – настолько незаметен, что комментаторы, не знавшие ”продолжения отрывка“ (да и современники Пушкина, его знакомые), нередко относили эти стихи к самой Гончаровой»74 (курсив наш. – В. Е.).
Можно с полной уверенностью утверждать, что приведенное нами «предположение» Бонди и было признано в советском пушкиноведении бесспорным доказательством того, что интересующее нас стихотворение обращено не к невесте поэта, как считалось до тех пор, а к М. Н. Волконской. По логике Бонди, получается, что если уж Пушкин в процессе работы над стихотворением вспомнил свою давнюю поездку по Северному Кавказу вместе с семьей Раевских, то, значит, любовные признания, содержащиеся в стихотворении, обязательно должны быть обращены именно к Марии Раевской, хотя никем (в том числе П. Е. Щеголевым) не доказано, что предметом «утаенной любви» Пушкина была именно она75.
Утверждение, что строка – «Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь…» – не может относиться к Наталье Николаевне, которую поэт оставил при неясных перспективах своего сватовства, совершенно односторонне; по нашему мнению, здесь вполне допустима и противоположная точка зрения.
Обосновывая дату начала работы над стихотворением (15 мая 1828 года), Бонди со ссылкой на давнюю работу Е. Г. Вейденбаума совершенно справедливо сопоставляет первые два стиха черновой редакции «с тем местом ”Путешествия в Арзрум“, где Пушкин рассказывает о своей поездке из Георгиевска в Горячие воды»76. Однако впоследствии Пушкин, как известно, изменил редакцию первых двух стихов, заменив пейзаж Cеверного Кавказа пейзажем Грузии. Бонди в соответствии со своей идеей предположил, что поэт поступил так, чтобы завуалировать истинную направленность своего любовного признания.
Логическое построение, надо признаться, очень сложное, если учесть, что Пушкин не читал исследований Бонди и Цявловской!
Гораздо вероятнее предположить, что изменение редакции стихов произошло под влиянием изменения окружающего пейзажа, также отраженного в «Путешествии в Арзрум»:
«Мгновенный переход от грозного Кавказа к миловидной Грузии восхитителен. Воздух вдруг начинает повевать на путешественника. С высоты Гут-Горы открывается Кайшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извивающейся, как серебряная лента…
Мы спускались в долину. Молодой месяц показался на ясном небе. Вечерний воздух был тих и тепел. Я ночевал на берегу Арагвы, в доме г. Чиляева. На другой день я расстался с любезным хозяином и отправился далее.
Здесь начинается Грузия. Светлые долины, орошаемые веселой Арагвою, сменили мрачные ущелья и грозный Терек…» (VIII, 454).
Непосредственное впечатление от «миловидной Грузии» и «светлых долин, орошаемых веселой Арагвою» вызвали изменение редакции первых двух стихов; таким образом, изменение это имеет, по нашему мнению, чисто творческие причины. Для Пушкина (если он имел в виду Н. Н. Гончарову) не имело значения, где сложилось в стихи его любовное признание 1828 года: на Северном Кавказе или в Грузии. Направленность самого признания от такой замены никак не могла измениться.
В завершение своей статьи Бонди предлагает еще одну редакцию стихотворения, которую он извлекает из чернового автографа на основании пометок Пушкина: вертикальной чертой, сделанной карандашом, зачеркнута вторая строфа, чернилами третья и, следовательно, не зачеркнутыми остались только первая и четвертая черновые строфы.
К этой редакции Бонди дает весьма любопытный комментарий: «А сейчас эти стихи, не отменяя, конечно, известной печатной редакции, представляют собой данный самим Пушкиным (а вовсе не произвольно скомпонованный редактором) новый вариант знаменитого стихотворения, вариант вполне законченный, значительно отличающийся от стихотворения ”На холмах Грузии“ и, пожалуй, не уступающий ему в художественном отношении»77 (курсив наш. – В. Е.).
Великодушное признание Бонди, что предложенная им редакция стихотворения не отменяет «известной печатной редакции» пушкинского шедевра, выглядит достаточно комично, если учесть, что она в значительной степени создана усилиями самого Бонди, автор же даже не удосужился перебелить исчерканный черновой текст.
Кроме того, вновь совершенно не ясно, почему эта редакция не может быть отнесена к невесте поэта? Во всяком случае, эпитет «девственных», относящийся к «мечтаниям» автора, ассоциативно связывается в сознании читателя скорее с шестнадцатилетней Натальей Гончаровой, нежели с замужней М. Н. Волконской.
Нельзя обойти молчанием и утверждение известного пушкиниста, что реконструированный им текст не уступает («пожалуй, не уступает») в «художественном отношении» стихотворению Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла…». Мы придерживаемся противоположного мнения. Предложим читателям вынести собственное суждение на сей счет, приведя этот текст полностью:
Все тихо – на Кавказ идет ночная мгла.Мерцают звезды надо мною.Мне грустно и легко, печаль моя светла;Печаль моя полна тобою.Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь —И без надежд и без желаний,Как пламень жертвенный, чиста моя любовьИ нежность девственных мечтаний.Насколько нам известно, ни в одном авторитетном издании этот черновой текст не приводится в основном корпусе произведений Пушкина, что является своего рода оценкой его художественной значимости.
Что же касается «полной уверенности», с которой составители книги «Утаенная любовь Пушкина» (1997) относят стихотворение «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» к М. Н. Волконской, то, на наш взгляд, и известная статья Бонди не дает никаких оснований для столь категоричного вывода.
4
Однако в пору, когда вопрос о стихотворении «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», казалось бы, был окончательно решен в пользу отнесения его к М. Н. Волконской, появилась статья М. П. Султан-Шах, подвергшая существующую точку зрения осторожной, но серьезной критике78.
Автором статьи достаточно убедительно обосновано, что стихотворением, посланным В. Ф. Вяземской в Сибирь и вызвавшим своеобразную оценку М. Н. Волконской, было именно интересующее нас стихотворение Пушкина.
Вот отзыв Волконской:
«В первых двух стихах поэт пробует свой голос. Извлекаемые им звуки, нет сомнения, очень гармоничны, но не имеют отношения к дальнейшим мыслям, столь достойным нашего великого поэта и, судя по тому, что Вы пишите мне, достойным предмета его вдохновения. Эти мысли так новы, так привлекательны, они вызывают в нас восхищение, но окончание, извините меня, милая Вера, за Вашего приемного сына, – это окончание старого французского мадригала, это любовный вздор, который нам приятен, потому что доказывает, насколько поэт увлечен своей невестой, а это для нас залог ожидающего его счастливого будущего. Поручаю Вам передать ему наши искренние, самые сердечные поздравления»79.
В связи с этим Султан-Шах отмечает следующее:
«Отзыв М. Н. Волконской тем интереснее, что комментарии к этому стихотворению во всех современных изданиях указывают, что оно адресовано именно к ней, Волконской. Между тем В. Ф. Вяземская прислала ей это стихотворение с указанием, что оно обращено к невесте поэта – Н. Н. Гончаровой. Это явствует из писем Волконской от 19 октября 1830 года и 20 марта 1831 года. Того же мнения придерживались и первые комментаторы, начиная с П. И. Бартенева, который остановился на вопросе об адресате этих стихов и назвал Н. Н. Гончарову. В отнесении стихотворения к Н. Н. Гончаровой первым усомнился П. Е. Щеголев. По его следам стали искать другого адресата. П. А. Ефремов высказал неуверенное предположение, что Пушкин имел в виду Ушакову, затем Е. Г. Вейденбаум предположил, что в стихах говорится о Елене Раевской. После разысканий П. Е. Щеголева о предмете ”утаенной любви“ Пушкина стали склоняться к тому, что стихотворение обращено к М. Н. Раевской-Волконской»80 (курсив наш. – В. Е.).
Вот главный аргумент в пользу отнесения стихотворения к М. Н. Волконской: по логике сторонников этой версии, оно должно быть обращено к той, кто являлся предметом «утаенной любви». Но как мы уже отмечали, со ссылкой на авторитетных представителей академической науки, мы так и не знаем имени этой женщины. То есть этот главный аргумент повисает в воздухе. Что же остается? Сомнения Щеголева, высказанные им в публикации 1903 года.
Суть сомнений выражена в следующем рассуждении Щеголева:
«Эти фразы о возрождении прежней любви, связанные с воспоминанием о прошлом («я твой по-прежнему, я вновь тебя люблю»), не могут относиться к Н. Н. Гончаровой; в отношениях Пушкина к ней еще не было прошлого»81.
Чем же обосновал Щеголев мысль об отсутствии прошлого в отношениях Пушкина и Гончаровой? Продолжим цитату:
«Пушкин был в это время страстно влюблен в нее; перед отъездом на Кавказ он сделал через Ф. Толстого ей предложение и получил отказ. Вот уж о любви своей к Н. Н. Гончаровой поэт не мог сказать, что он любит ”без желаний”»82.
Особый упор Щеголев сделал на слово «страстно», но ведь это щеголевская характеристика любви Пушкина, какой она была на самом деле, мы не знаем. Однако, признав, что Пушкин был «страстно влюблен» в Гончарову, Щеголев тем самым разрушил собственное возражение по поводу существования «прошлого» в их отношениях, потому что в любви, как известно, существует своя логика, которая порой может быть недоступна авторитетному историку и пушкинисту. Вспомним страстные взывания Онегина к Татьяне в восьмой главе романа:
Я знаю: век уж мой измерен;Но чтоб продлилась жизнь моя,Я утром должен быть уверен,Что с вами днем увижусь я…Этот отрезок времени между «утром» и «днем», какой вечностью он должен казаться для влюбленного! Но там, где есть вечность, может существовать и прошлое.
Невозможно объяснить и уверенность Щеголева в том, что замужнюю Волконскую можно любить «без желаний», а несостоявшуюся пока невесту (сватовство не привело к желаемому результату) нельзя.
Нашими запоздалыми возражениями на давние утверждения Щеголева мы хотим показать, что эти утверждения носят односторонний характер, что они не более чем предположения.
Именно такой упрек (предположение – не есть доказательство) адресует в той же публикации сам Щеголев своим оппонентам:
«К кому относится стихотворение? Издания относят его к жене поэта Н. Н. Гончаровой… Это – одно из тех предположений, которые не имеют за собой фактических подтверждений»83.
Заявление Щеголева для нас чрезвычайно важно, потому что в то время, как и в 1931 году, когда была опубликована развивающая его «сомнения» работа Бонди, «фактических подтверждений» в пользу отнесения стихотворения к Н. Н. Гончаровой действительно еще не существовало. Они появились после прочтения нескольких писем М. Н. Волконской из Сибири, хранившихся в рукописном отделе ИРЛИ. Именно этому открытию новых материалов о Пушкине и была посвящена статья Султан-Шах 1956 года, к рассмотрению которой мы уже приступили. Напомним главное: стихотворение Пушкина было получено М. Н. Волконской от В. Ф. Вяземской с указанием, что оно обращено к невесте поэта Н. Н. Гончаровой. Ответ М. Н. Волконской мы также уже приводили. Таким образом, с опубликованием статьи Султан-Шах заявление Щеголева 1903 года потеряло силу. Теперь в 1956 году уже можно было перефразировать его текст в обратном смысле: «К кому относится стихотворение? Издания относят его к М. Н. Волконской. Это – одно из тех предположений, которые не имеют за собой фактических подтверждений».
Добавим к отмеченному, что к статье Султан-Шах имеется редакционное примечание составителей первого тома авторитетнейшего издания «Пушкин. Исследования и материалы» следующего содержания:
«Отрывки из писем М. Н. Волконской к В. Ф. Вяземской от 19 октября 1830 года и к З. А. Волконской от 20 марта 1831 года, касающиеся стихотворения Пушкина ”На холмах Грузии лежит ночная мгла…“, напечатаны в русском переводе Б. В. Томашевским в примечании к этому стихотворению в издании: Пушкин А. С. Стихотворения // Библиотека поэта. Большая серия. 2-е изд. Т. 3. Л., 1955. С. 836–837, – с указанием на то, что отзыв М. Н. Волконской-Раевской ”кажется опровергает“ версию П. Е. Щеголева о посвящении ей (а не Н. Н. Гончаровой) этого стихотворения»84.
Необходимо отметить, что приведенное «указание», как и статья Султан-Шах, совершенно не были приняты во внимание в дальнейшей дискуссии по поводу стихотворения Пушкина, например, Т. Г. Цявловской в ее статье 1966 года. Такой стиль ведения дискуссии вряд ли может быть признан безупречным.
К сожалению, сама Султан-Шах по каким-то причинам не нашла возможным столь явно подчеркнуть значение своего открытия в споре о стихотворении «На холмах Грузии лежит ночная мгла…». Вместе с тем она выдвинула весьма серьезные аргументы против трактовки Бонди четырех строфного реконструированного им чернового текста автографа стихотворения:
«…стихотворение в такой композиции в действительности никогда не существовало. Автограф ясно показывает, что Пушкин, написав две первые строфы (которые позднее с изменением двух первых стихов и составили все стихотворение), поставил разделительный знак = и перешел к новой теме, обычной для него в эти годы (1825–1830), – к теме воспоминаний и пересмотра своего жизненного пути. Но, написав одну строфу, он остановился, отказался от намерения ввести тему воспоминаний в стихотворении, зачеркнул эти четыре стиха и, поставив под ними разделительную черту, продолжал прерванную тему первых двух строф: ”Я твой по-прежнему…”» и т. д.
В самом деле, третья строфа («Прошли за днями дни…») не связана ни по смыслу, ни стилистически со второй и особенно с четвертой строфами («Где вы, бесценные созданья?..», «Я твой по-прежнему…»).
Это признает и первый публикатор чернового текста стихотворения С. М. Бонди85 (курсив Султан-Шах. – В. Е.).
Кроме того, в примечании Султан-Шах отмечает: «В академическом издании сочинений Пушкина (Т. III. Кн. 2. 1949. С. 722–723) четырехстрофная редакция стихотворения напечатана, однако, как единое целое, без указаний на разделительные знаки и на исключение третьей строфы, что, несомненно, представляет ошибку»86.
Первой черновой редакцией стихотворения Султан-Шах уверенно считает трехстрофную:
I. Все тихо – на Кавказ идет ночная мгла…
II. Тобой, одной тобой – унынья моего…
III. Я твой по-прежнему – тебя люблю я вновь…
По поводу третьей (по Бонди – четвертой) строфы Султан-Шах замечает следующее: «…она нам представляется также не противоречащей отнесению стихотворения к Н. Н. Гончаровой. Стихотворение в целом (имеется в виду трехстрофная редакция. – В. Е.) говорит о трагическом перерыве в любви, о пережитой печали и вновь разгоревшемся чувстве»87.
Кроме того, Султан-Шах обратила внимание на важную особенность одного из беловых автографов стихотворения (берлинского): «Там текст его сопровожден рисунком, изображающим девушку во весь рост в профиль, с крылышками бабочки, как изображали Психею. Мы знаем из свидетельств сестры поэта, что жену Пушкина называли в петербургском свете Психеей. В этом профиле несколько подчеркнута длинная линия лба и длинная шея – особенности, которыми отличаются пушкинские зарисовки профиля Н. Н. Гончаровой»88.
Итак, мы кратко рассмотрели едва ли не все основные работы пушкинистов прошлого века с 1903 по 1997 год, в которых обсуждалась правомерность отнесения стихотворения «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» к Н. Н. Гончаровой или к М. Н. Волконской.
В результате предпринятого анализа указанной литературы мы пришли к выводу, что оснований для отнесения стихотворения к М. Н. Волконской явно недостаточно. Гораздо больше оснований отнести его к невесте поэта Н. Н. Гончаровой, что и делали дореволюционные комментаторы произведений Пушкина.
5
В завершение наших заметок остановимся кратко на еще одном стихотворении Пушкина, по случайному совпадению также связанному с Грузией.
В. И. Доброхотов, упомянутая публикация которого послужила поводом для нашего выступления, и стихотворение «Не пой, красавица, при мне…» относит к М. Н. Волконской столь же категорично и безосновательно, как и «На холмах Грузии лежит ночная мгла…»89.
В связи с этим напомним, что в давней статье Р. В. Иезуитовой, в целом весьма содержательной и солидной, попытка отнести это стихотворение к М. Н. Волконской обосновывается следующим универсальным способом:
«После работы П. Е. Щеголева ”Из разысканий в области биографии и творчества Пушкина“, установившего, что кавказским увлечением Пушкина была М. Н. Раевская, расширились возможности для углубленного комментария пушкинского стихотворения»90 (курсив наш. – В. Е.).
Мы видим здесь ту же методологию доказательств, которая была распространена в советской пушкинистике при рассмотрении проблемы «утаенной любви» Пушкина.
Однако сегодня, когда версия П. Е. Щеголева больше не считается научно доказанной, та же Р. В. Иезуитова вместе с Я. Л. Левкович признает, что стихотворение «Не пой, красавица, при мне…» без достаточных оснований относилось пушкинистами к М. Н. Раевской–Волконской под влиянием версии Щеголева91.
В самом деле, остановим внимание на второй строфе:
Увы, напоминают мнеТвои жестокие напевыИ степь, и ночь, и при лунеЧерты далекой бедной девы.Почему, если здесь имеется в виду Мария Раевская, она названа «бедной»? Сторонники версии Щеголева, не колеблясь, ответили бы нам: «Потому что ко времени написания стихотворения она находилась в Сибири».
Такой ответ никого не может удовлетворить. Ведь в приведенной строфе нами ощущается своего рода единство времени и места действия: поэт видит мысленным взором «черты далекой бедной девы» именно «при луне», в степи, Мария же Раевская в 1820 году (к нему пушкинисты относят это воспоминание автора) никак не могла быть названа «бедной». Предположение, что автор считает ее «бедной», подразумевая ее будущую судьбу, разрушает поэтический образ, лишает его органичности. К тому же в 1829 году М. Н. Волконскую вряд ли уместно было называть «девой».
Кроме того, отношение Пушкина к ней всегда определялось сторонниками версии Щеголева как безответная, неразделенная любовь. В стихотворении же угадываются отношения совсем иного рода. Здесь присутствует, как проницательно заметила Анна Ахматова, «тема уязвленной совести автора»92. Это подтверждается и возгласом сожаления в начале второй строфы: «Увы»! «Увы, это случилось тогда», – как бы вздыхает автор.
А «бедной» дева названа, по-видимому, потому, что автор по каким-то причинам (или без причин) не собирался связывать с нею свою судьбу, несмотря на счастливое для него любовное свидание с нею. Вместе с тем характеристика «бедная» может иметь социальный смысл: несостоятельная, небогатая, не принадлежащая к привилегированному кругу.
Выскажем предположение, отнюдь не претендуя на его окончательность, просто предположение (как и абсолютное большинство предположений Щеголева и его последователей в пользу М. Н. Раевской–Волконской), что «бедной девой» в данном случае вполне могла быть компаньонка сестер Раевских, татарская девушка Анна Ивановна, которая сопровождала их в поездке по Северному Кавказу в 1820 году.
Однако в том же 9-м выпуске «Московского пушкиниста», который мы уже упоминали, предлагается другое решение вопроса: Е. А. Зингер, давно занимающаяся биографией Амалии Ризнич и ее ролью в жизни и творчестве Пушкина, в статье «Еще о ”бедной деве“» попыталась обосновать, что именно Ризнич и была «бедной девой» в стихотворении Пушкина «Не пой, красавица, при мне…».
Автор упомянутой статьи сосредоточенно и серьезно анализирует некоторые обстоятельства и факты, связанные с интересующей нас проблемой, и ее работа не может не вызывать уважения.
Однако окончательные выводы ее статьи мы, к сожалению, не можем принять по следующим соображениям.
Во-первых, в центральном месте статьи Е. А. Зингер, где мнение Анны Ахматовой как будто бы подкрепляется мнением Владислава Ходасевича, происходит невольная (в чем мы не сомневаемся) подмена смыслов. Ахматова, говоря об «уязвленной совести» автора стихотворения, отнюдь не упоминает Ризнич: она анализирует лишь психологические побуждения Пушкина; Ходасевич же, называя Ризнич, не упоминает стихотворение «Не пой, красавица, при мне…». Таким образом, сопоставление двух цитат фактически не работает на версию Е. А. Зингер.
Во-вторых, замужняя Амалия Ризнич, «негоциантка молодая», окруженная постоянно толпой поклонников, плохо ассоциируется с «девой», которую автор называет «бедной» в момент любовного свидания. Предположение же, что автор проецирует будущие несчастья Ризнич на образ «бедной девы», черты которой вспоминается ему, спустя годы, в степи, «при луне», как мы уже отмечали (имея в виду М. Н. Волконскую), разрушает поэтический образ.
И в-третьих, если предположить, что «степь» и «берег дальный» – это приметы одесского пейзажа, как считает Е. А. Зингер, то при чем тогда «песни Грузии печальной» в стихотворении, как объяснить упоминание Грузии? Как согласуется с таким предположением черновая строфа:
Напоминают мне онеКавказа гордые вершины,Лихих чеченцев на конеИ закубанские равнины?То обстоятельство, что приведенная нами строфа не вошла в окончательный текст стихотворения, не доказывает возможности (или необходимости) перемещения «степи» и «берега дального» в одесский период жизни Пушкина. Воспоминание, ставшее основой лирического стихотворения, вряд ли может в промежуточных вариантах этого стихотворения перемещаться из одного периода жизни автора в другой, с неизбежной заменой самого объекта воспоминания…