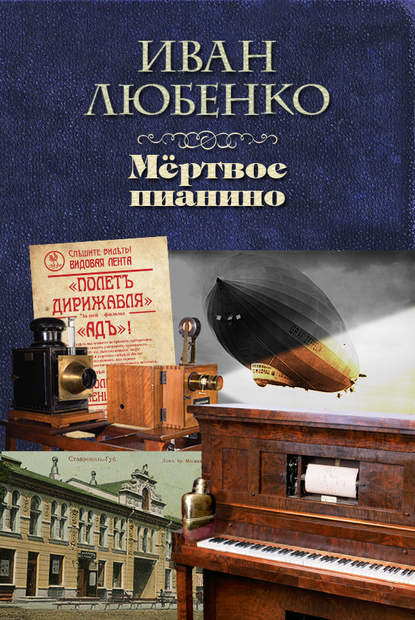Полная версия
Маскарад со смертью
Вот таковым и был доставленный охраной для допроса арестант – сорокалетний коротышка, с залысинами и бакенбардами, обладатель носа-картошки, губастый толстяк Тарас Задрыгин. Любой мрачный меланхолик умер бы со смеху при виде этой нескладной и удивительно нелепой фигуры. Конвойный удалился, оставив его наедине со следователем.
Бывший театральный парикмахер сел на кончик стула, конфузливо достал белую тряпицу, исполняющую роль носового платка, натужно прокашлялся и с готовностью заглянул в глаза полицейскому чиновнику. Было заметно, что на допрос Тарас пришел с видимым удовольствием. На лице читалось выражение: «готовый к услугам».
– Как поживаете, Тарас Аверьянович? – с притворной заботой поинтересовался следователь.
– Знамо дело, плохо. Второго дня посылку от жены принесли, так эти аспиды все забрали, даже фантики от конфет растащили на всякие поделки. А Иван, главный вор, принудил «барыню» попервоначалу станцевать. Я сплясал, а что толку. Так несолоно хлебавши и остался, – горько вздохнул парикмахер.
– А как там сиделец новый-то поживает? Ну, этот, Васильчиков?
– Оно мне надо – мозоли на глаза набивать? – отвернувшись в сторону и потирая когда-то бывший сменным воротничок, с нарочитым безразличием произнес арестант.
– На вот, возьми. – Кошкидько протянул Задрыгину шоколадку.
– На милости покорнейше благодарим! Фабрика «Эйнем»! Любимая сладость знаменитой актрисы Шопенбах! – Быстро запихнув в себя лакомство, Тарас, смакуя, поочередно облизал каждый палец. От этой картины следователя едва не стошнило. – А Васильчиков этот, скажу я вам, скипидаристый мужик оказался! К нему Иван третьего дня волынщика, забияку по-ихнему, подослал. Тот и говорит: «Дай, офицерик, сапожки примерить. А то боюсь, что кителек в плечах мал да рубаха великовата будет». Так этот «гусарик» и задал ему феферу: с нар слез, задиру обеими руками обхватил, заревел наподобие раненого льва мадагаскарского, к потолку его поднял и аккурат в парашу вниз головой вставил. Тот только ногами вензеля выделывал. А потом развернулся и говорит вору: «Что ж, уважаемый каторжанин, если тебе мое обмундирование приглянулось, давай партию в штосс сыграем. Проиграю – амуниция по частям твоя, а повезет – вы этого волынщика мне тоже частями на растерзание отдадите». Камера напряглась, тишина стоит – слышно, как мухи летают. А Ивану-то что, не свое проигрывать, а надоевшего всем Петьку с Форштадта. «Ладно, – говорит, – присаживайся, бросим карты». Иван колоду достал и давай туда-сюда фертикулясы всякие выкидывать: и так и этак тасует. Вот, дескать, какой я фокусник. Вояка молчит да спокойненько своей растасовочкой занимается. Понтер, то есть Иван, ставку сделал – уши Петькины на карту поставил. А служивый начальным кушем объявил свой китель. Жулик колоду подрезал, а Васильчиков-то, банкомет, свою-то перевернул и сдвинул верхнюю на полкарты. Ну и, значит, вор открывает – семерка бубен, зато у офицерика – семерка пик. Вот кавалерист и выиграл. Потом снова ставки сделали. Смотрю, поручик в кураже весь и штосс мечет. Первый абцуг, второй, третий, и снова офицер выиграл. Каторжанин продул Петькины уши, нос и даже зубы. Расстроился, конечно, но не очень. Тут «гусар» ему и говорит: «Возьми от меня на память китель. Я ведь все равно здесь не надолго. А от Петькиных ушей мне все равно никакого профиту нет». А варнак в ответ: «За китель благодарствую. Но отныне и довеку тюрьма тебя окрестила «игроком». А Петька – твой вечный поддувала», – ну это лакей по-ихнему. С того дня они с Иваном с утра до вечера в карты режутся. Корешами стали. Арестанты Васильчикова уважительно кличут Арнольдычем. Свой он для них теперь. Спит у окна на соломенном матрасе и даже имеет собственный арестантский сундук. Футы-нуты – важная птица. Не то что я – за всякую вину виноват. И ворюга этот заставляет меня теперь каждый день песни для них петь, – хлопая маленькими свиными глазками, обиженно жаловался заключенный.
– Какие такие песни? – удивленно вскинул брови следователь.
– А всякие, в основном арестантские. Например, вот эту. – Парикмахер подскочил, заученно вытянулся во фрунт и, качая головой в разные стороны, затянул:
Идет арестант, только цепи гремят,Закованы руки и ноги.И грустный он взгляд в горизонт устремил,Дышать ему трудно от боли… —или вот можно другую, повеселей:
Прощай, Одесса!Славный карантин!Мы уплываемНа остров Сахалин…Капарник старательно выбивал чечетку и колотил себя ладошками по коленям, а потом пустился вприсядку.
– Ну будет тебе, будет… Тоже мне кафешантан устроил, – недовольно махнул рукой чиновник.
– Думаете, мне, ваше благородие, петь нравится? Знали бы вы, как тяжко мне с матерыми убийцами да беглыми каторжниками в одной камере сидеть. Вы уж поспособствуйте, чтоб меня курьером при тюремной канцелярии оставили. Слышал я, место там недавно высвободилось. На днях старый посыльный преставился, – мучаясь одышкой и вытирая засаленным рукавом пот, выпрашивал бывший театральный служащий.
– Похлопочу, любезный, похлопочу. Ну да ладно. Поговорили, и будет. Ступай себе с богом. – Глеб Парамонович колокольчиком вызвал караульного, и Задрыгина увели.
Опытный и хитрый Кошкидько понимал, что при таких обстоятельствах новый допрос Васильчикова был бесполезен и даже следственному делу вреден, тем более что Поляничко ничего серьезного против поручика так и не накопал. Полнейший афронт.
11
Сообщники
Костер достаточно хорошо разгорелся. Рамазан достал из кожаного непромокаемого мешочка немного кукурузной муки, размочил в воде, раскатал на плоском камне тонкий слой теста и поближе придвинул к огню, чтобы снова почувствовать знакомый с детства вкус пресной кукурузной лепешки. Кусок вяленой баранины и ломоть соленой брынзы отлично дополнят привычный для каждого воина походный ужин, после которого можно и заснуть. Постель была почти готова. Оставалось надрезать кинжалом душистый травяной покров, скатать дерн со всего ложа, сгрести в образовавшееся углубление горячие головешки и снова накрыть их развернутой земляной «периной». Угли под таким «матрасом» будут тлеть до самого утра, не давая земле остыть.
Многие считали Тавлоева абреком – ярым приверженцем ислама, давшим клятву посвятить жизнь участию в набегах. Абрек никогда не жалеет врага и не прощает даже малейшей обиды ни своему брату, ни другу. Он не боится преследования русских властей и не страшится мести своих земляков. Он может быть врагом для каждого, кто не принадлежит к его семье, и, готовый напасть на первого встречного, сам рискует быть убитым в любую минуту. В аулах они самые опасные соседи, с ними всегда надо «держать руку на кинжале» и оставаться готовым отразить их нападение. И хотя Рамазан и называл себя абреком, но понимал, что этого звания он недостоин из-за несоблюдения главной клятвы – как истинный мусульманин, воин ислама обязан сторониться всяческих увеселений и наслаждений. А до развлечений Рваный был большой охотник.
Горец подбросил в ослабевшее пламя еще пару толстых веток, чтобы огонь отпугивал ночью волков и шакалов. Закрыв глаза, он быстро уснул. Тепло приятно грело спину. Он проделал длинный путь к морю и благополучно вернулся через перевал обратно. Там, дождавшись ночи, он встретил баркас с оружием и двумя турецкими муллами. Он помог им добраться по тайным тропам на эту сторону Кавказских гор, минуя посты русской пограничной стражи, с тем чтобы проповедники ислама могли обойти каждый аул и приобщить к своей вере тех горцев, которые заблудились на пути к Аллаху и пока еще почитали Иисуса. Рамазан теперь сам покупал оружие и с большой выгодой перепродавал чеченцам, среди которых ценились в основном германские винтовки. Пистолеты ждали других покупателей. Эти странные русские называли Рваного новым для него словом «товарищ» и щедро расплачивались золотом. Товар для них приходилось доставлять в Ставрополь на городскую окраину, где после удачной сделки Рамазан и давал волю мужским слабостям.
Но для того чтобы покупать безотказные немецкие винтовки, нужно было много денег. Грабить почтовые кареты становилось все опаснее. По приказу из Ставрополя их экипажи стали вооружать револьверами, а по дорогам разъезжали казачьи патрули. Но если раньше он убивал гяуров просто так, то теперь каждое убийство приносило большие деньги.
С Михаилом они познакомились в тюрьме. Арестантов сблизила общая ненависть к империи, которая вот уже целое столетие безжалостно унижала честь маленьких, но гордых народов и, как говорил Михаил, несправедливо разделила человеческие блага среди своих подданных. Такое государство должно умереть. На смену ему придет царство труда и справедливости с железной дисциплиной. В стране не будет религии, потому что люди станут покланяться не Богу, а возведенным в священный статус наиболее достойным старшим соратникам. Их назовут вождями и станут почитать: дети вместо закона божьего и жития святых должны будут заучивать выдуманные истории их детства, а взрослых будут награждать орденами и медалями их имени. Делить блага, судить людей за их грехи и исполнять наказание на местах будут специальные комиссии из выбранных товарищей, подчиняющиеся вышестоящим центральным комитетам. Именно такие, как он, за всех и будут решать: какие книги стоит читать, а какие – нет; чьи кинематографические фильмы можно показывать, а чьи – запретить; сколько детей должно быть в каждой семье и по каким жизненным дорогам они пойдут. Все решат они – «товарищи» Михаила по партии. Но завладеть властью можно только путем вооруженной борьбы. На первом этапе следовало уничтожать тех, кто стоял на страже интересов существующего порядка, а на втором – необходимо избавиться от той части населения, которая прямо или косвенно содействовала процветанию несправедливого буржуазного государства.
В этом маленьком и хрупком парне Рваного поражало все: ум и холодный расчет, фанатичная целеустремленность и ледяная жестокость, с которой он резал горло соотечественникам только за то, что их мундир издали напоминал полицейский.
Рамазан слышал от верных людей, что несколько лет назад во время уличных беспорядков в Москве Михаила, тогда еще безусого гимназиста старших классов, арестовали. Всю ночь пьяные жандармы в участке издевались над ним, а потом насильно переодетого в женское платье розовощекого юношу затолкнули к рецидивистам. Воры его не тронули, но наутро из камеры вышел уже другой человек.
Вторично Михаил Евсеев был арестован через год по обвинению по делу «О преступном сообществе, имевшем целью революционную пропаганду и злоумышление против Государя». При обыске у него нашли литографированную прокламацию, представляющую якобы речь Жореса под заголовком «Смерть царизму»; полулист почтовой бумаги, озаглавленный «Основной закон Российской империи (краткое содержание)», а также дневник с записями крамольных мыслей. По приговору Московского окружного суда молодой человек был сослан в Восточную Сибирь, в селение Нижняя Кара, на пять лет. Из ссылки Евсеев бежал, убив по дороге двух полицейских, и в данный момент находился в розыске. Общая опасность сблизила двух совершенно разных людей и теперь у них одна общая стезя.
В жаркий воскресный день сообщники договорились встретиться на городском ипподроме. Еще издали Рамазан приметил рядом с Михаилом человека в черных брюках и светлой рубашке. Благодаря его информации они точно знали, когда везут деньги, а когда казенные документы и почту. Недавно он сумел вовремя предупредить их о полицейской засаде. Весь день пятеро вооруженных до зубов «фараонов» бессмысленно тряслись в душной двухместной карете по ухабам и кочкам Черкасского тракта.
Все бы хорошо, но вот доля нового члена банды была слишком высокой, – ему отдавали половину добычи. Вот и опять, едва завидев Рваного, он быстро скрылся в толпе, оставив после себя легкий запах одеколона. Ох уж эти господа! Пахнут, как дешевые женщины! С каким удовольствием он бы вспорол этому упитанному поросенку брюхо! Но нельзя – он им пока нужен. Правда, его последняя наводка удачи не принесла, и ночное нападение на поезд оказалось безрезультатным… Их кто-то опередил.
Евсеев обрадовался Рамазану, и по старому кавказскому обычаю соратники трижды слегка обняли друг друга, едва касаясь щеками.
– Аллах снова пэрэсек нащи дароги, брат мой, – слабо улыбнувшись, приветствовал друга Тавлоев.
– Я тоже рад встрече. Послушай, Рамазан, завтра отсюда в Медвеженский уезд пойдет карета с двумя вооруженными охранниками. Капиталу в ней почти на пятьдесят тысяч. Теперь будем работать по новому плану. Старый способ никуда не годится. На этот раз возьмем с собой Полину. Она, как ты знаешь, мой надежный партийный товарищ. Участвовала в эксах в Тифлисе и Екатеринодаре. Владеет браунингом, как ты кинжалом. Упаси тебя боже затевать с ней всякие шуры-муры. Пристрелит и здрасте не скажет. Я уже отослал ее в Медвежье. Она будет ждать нас на восьмидесятой версте. Там, почти у самого Преградного, дождемся казенный тарантас. Сделаем работу и вернемся обратно. В Ставрополе тоже есть два дельца. На днях одна знакомая белошвейка проболталась, что ее новый ухажер – артист из Варшавы хвастался ей, что недавно сыграл самую высокооплачиваемую роль – французского ювелира, передав кому-то драгоценных камней почти на миллион рублей. За это он получил солидную сумму денег и выпросил на память какую-то брошь в виде бабочки. Надо бы выяснить, кто и зачем его нанял. Я думаю, ты сможешь заставить его заговорить.
– Нэ сомневайся. Все сдэлаю правилно. Соловьем запает. А какоэ втароэ дэло?
– Наш друг считает, что стоит наведаться к вдове убитого на Николаевском проспекте еврея. Он говорит, что те иностранцы в поезде собирались продать драгоценности именно ему. Значит, дома полно деньжат и дамочка станет легкой добычей, – глядя на мчавшихся по кругу рысаков, не поворачивая головы, монотонно, почти без пауз, цедил сквозь зубы похожий на уездного лекаря молодой человек в очках.
– А она красывая? – спросил Рамазан, почесывая давно не мытое тело.
– Не девица, а мармелад. Тебе такие нравятся.
– О Аллах, ты снова услыщал мои молытвы! – радостно простер руки к небу горец.
– Ладно, ладно. Потише. А то смотри, «селедки» сбегутся. Нам это ни к чему.
Мимо веселой гурьбой катилась людская беззаботная толпа. Многие приходили посмотреть на скачки целыми семьями. Для маленького города это зрелище могло сравниться лишь с цирком, что осенью разбивал свои брезентовые шатры на Ярмарочной площади.
Но два человека не испытывали никакой радости ни от теплого летнего солнца, ни от сотен людских улыбок, наполнивших ипподром. Все остальные были для них жертвами. Вопрос состоял только в том, когда же наступит черед каждой из них. Они чувствовали свое превосходство над безликой людской толпой так же, как его чует волк, когда бежит резать беззащитную отару. В такие минуты от осознания силы и некоего тайного предназначения у Михаила темнело в глазах и бешено колотилось сердце.
А Рамазан, кажется, уже обо всем забыл и горячо переживал за потерянную ставку, сделанную на вороного под пятым номером, который, из-за ошибки жокея, так и не сумел прийти к финишу первым.
12
Последняя роль
Актер Русского драматического театра из Варшавы Аполлон Абрашкин личностью был пустой и бесполезной, хотя сам считал себя человеком необыкновенных способностей. Но вся его хваленая исключительность заключалась лишь в умении находить легковерных простаков и за их счет утолять свои низменные потребности. Сказать по правде, внешности Абрашкин был самой что ни на есть обычной: полный и невзрачный человечек лет сорока пяти, несмотря на безвкусный наряд, в нем присутствуют некоторые элементы франтовства: атласный малиновый жилет, из кармашка которого по животу бежит серебряная цепочка недорогих часов «Павел Буре». От всей его особы ужасно веет даже не артистом, а скорее каким-нибудь ветеринаром или письмоводителем, недавно получившим скромное наследство от умершей тетушки в далеком Лесозагорском уезде.
При встрече он подходит к собеседнику почти вплотную, и вам невольно приходится зажмуриваться от летящих из его рта брызг. В то же время, будучи человеком воспитанным, вы терпите эти временные неудобства и желаете только одного – поскорее с ним распрощаться. Но это не так просто. Особенно если вы попались Абрашкину, когда он «сильно зашибил муху». В такие минуты из-за своей крайней беспардонности и необузданной назойливости он становится особенно невыносимым.
Он без лишних церемоний напросится к вам в гости или потащит вас в соседний кабак, чтобы угоститься за ваш счет. Отведав новую порцию живительной влаги, этот господин «трещит» без умолку и в разговоре принимает положения одно пикантнее другого: то развалится, вытянувшись в полный рост на стуле, то хлопнет вас по плечу, а то вдруг, как ни в чем не бывало, вытащит папироску из вашего портсигара или неожиданно бросит использованную салфетку прямо к вам в тарелку. И все это он делает непринужденно, с некоторым показным амикошонством и театральной манерностью.
Конечно же, у него не хватает достаточно ума и галантности, чтобы добиться ласки от высокооплачиваемых театральных красавиц, зато молодые актрисы эпизодических ролей и костюмерши – всегда его. А когда не хочется тратить время на ухаживания, есть и желтобилетницы – русские жрицы платной любви.
Беззаботным лондонским денди и обольстительным казановой он чувствовал себя по воскресеньям, когда отыгрывал роль конторщика Епиходова в комедии Антона Чехова «Вишневый сад», и по средам, исполняя роль Добчинского в «Ревизоре». После окончания спектакля Абрашкин вваливался в трактир средней руки, гулял там до полуночи и, если не находил себе пары, возвращался на съемную квартиру один. Хотя правильнее было бы ее назвать комнатой с отдельным входом в крытой камышом хате на второй Заташлянской улице – в самой глухой и богом забытой части Ставрополя.
Извилистая и неширокая река Ташла текла под Крепостной горой, где строились первые казачьи хаты и откуда, собственно, и пошел расти город. Весь склон, улепленный глинобитными убогими домишками, представлял собой множество кривых, пересекающихся друг с другом и опять уходящих в разные стороны улочек.
Летом Ташлянское предместье, или Ташла, как его называли в народе, представляло сплошной сад со своим микроклиматом. Благодаря тому, что весь этот район располагался в низине, температура примерно на два градуса была выше, чем в городе, а закрытость от ветров с юго-востока и северо-запада создавала ощущение спокойного райского уголка. Только вот появляться в этом «раю» лишний раз полиция особым желанием не горела.
Улицы на Ташле никак не освещались и осенью погружались в грязное и непролазное бездорожье, а зимой сугробы по крышу засыпали одноэтажные саманные хатенки. Извозчики ездить туда не любили и если соглашались доставить клиента, то выторговывали дополнительный барыш. Зато маргинальные личности всех мастей чувствовали себя там как мухи в сахаре. Конокрады же уводили ворованных коней еще дальше – за Иоанно-Мариинский женский монастырь, где обычно останавливался и разбивал шатры цыганский табор.
Абрашкин расплатился с возницей и, слегка путаясь в собственных ногах, со второй попытки открыл внутренний замок, который, как ему показалось, был вовсе открытым, и, весело насвистывая, зашел в комнату. Чиркнув несколько раз спичкой, он зажег огарок свечи, прилипший к треснутому блюдцу. Фотогеновую лампу разжигать не хотелось. Для его теперешнего состояния это была очень сложная процедура: снять стеклянный колпак, слегка выдвинуть язычок фитиля, зажечь его и аккуратно, вставив в расположенные по кругу пазы, надеть прозрачную колбу. Это ведь только на первый взгляд кажется, что сделать легко, а вот попробуй управиться со всем этим хозяйством после бесчисленного количества выпитых штофов, рюмочек и фужеров. Со свечой же – много проще…
Обувь артист снимал своеобразно. Двумя руками он уперся в обе стороны дверного косяка и, зацепившись каблуком за порог, потянул правую ногу на себя. Следуя законам механики, туфля отлетела вперед и потерялась где-то у окна. Та же участь постигла и левую. Истратив на сложную процедуру последние силы, он задул свечу и плюхнулся на железную кровать. Через секунду дом дрожал от похожего на извержение Везувия храпа.
Четыре сильные руки быстро и по-деловому перевернули спящее тело навзничь, привязали руки и ноги к спинкам кровати прочными веревками и, заткнув открытый во сне рот куском подобранной тут же тряпки, начали пытку. Орудовал один человек. Острой опасной бритвой он сделал несколько надрезов на коже выше локтя правой руки. Кровь брызнула и потекла на простыню.
От внезапной, невесть откуда взявшейся острой боли Аполлон проснулся и оторопело огляделся. Какой-то сумасшедший абрек с бритой головой, не обращая никакого внимания на него, с деловым видом молча сдирал кожу с его собственной руки. Во рту торчал кляп, а сам он был надежно привязан к кровати. И это был не кошмарный сон!
Прикушенный от боли язык, как живой, вздрагивал и пульсировал во рту. Безумно хотелось прокричать изо всех сил одно-единственное слово – «ма-ма!». Слезы, кровь, пот и моча текли из человеческого тела одновременно. Но палачу до этого не было никакого дела. Он старательно скатывал срезанные куски человеческой плоти и делал новые надрезы. Но потом вдруг остановился, взглянул на жертву и сел на стул.
В эту самую минуту тусклое пламя свечи выхватило из темноты лицо еще одного незваного гостя славянской внешности. Криво улыбаясь, он подошел к распятому на кровати Абрашкину и тихим и вкрадчивым голосом вежливо произнес:
– Я был бы вам несказанно признателен, если бы вы, сударь, согласились ответить на некоторые мои вопросы. – И, передернув плечами, добавил: – А если откажетесь, мы порежем вас на ремни.
Несчастный согласно закивал головой и содрогнулся в глухих и прерывистых рыданиях.
– Скажите, милейший, откуда у вас прекрасная брошь, о которой вы рассказывали несколько дней назад одной юной девице? – любознательно поинтересовался интеллигентного вида молодой человек в очках. Тем временем горец выдернул изо рта мученика кляп.
С трудом передвигая опухшими и окровавленными губами, заикаясь сквозь всхлипывания, артист произнес: – Я по-олучил его от одно-о-го зна-а-комого за то, что сыграл роль фра-а-нцузского ювелира.
– Кто он?
– Это стра-ашный человек. Он убьет меня, если узнает, что я ра-а-ссказал вам о нем.
– А мы нэ убьем тэба, нэт, мы толко будэм тэба рэзат на щащлик, – встав со стула, проговорил палач и дернул несчастного за свисающий с предплечья лоскут кожи.
Аполлон все-таки успел вскрикнуть заветное слово. И его «ма-а – ма-а!» разнеслось по округе прощальным криком подраненной, отставшей от перелетной стаи птицы. Он закрыл глаза, вздрогнул и разом испустил дух.
Рваный оторопел и снова резко потянул за израненную плоть страдальца – никакой реакции, только вдруг широко открылись остекленевшие глаза жертвы, а рот растянулся в ироничной усмешке.
– Он что, умэр? – удивленно спросил Рамазан.
– Слишком слабый человек. Должно быть, скончался от сердечного удара, – по-будничному спокойно заключил Евсеев. – Надо бы внимательно осмотреть его берлогу.
Сообщники выдвинули ящики ветхозаветного скрипучего комода, зачем-то оторвали дверцу, выбросили одежду из шкафа, распороли обшивку мягкого стула, долго шарили на полках в кладовой, но ничего, кроме мертвых тараканов и одной засохшей прошлогодней мыши, не нашли. Горец, расстроенный неудачей, в сердцах швырнул на пол стоявшую на маленьком столике пустую чернильницу, расколовшуюся на мелкие кусочки зеленого стекла.
Не обращая внимания на внезапный припадок гнева напарника, Михаил стал откручивать резные металлические набалдашники, венчающие собой спинки железной кровати. Под одним колпаком он обнаружил свернутые в трубочку денежные купюры крупного достоинства, а под другим нашел маленький бумажный кулек.
– Аллах акбар! – тыча пальцем, восторженно прокричал горец.
Находка оказалось достаточно ценной. В куске серой оберточной бумаги была завернута украшенная россыпью брильянтов, изумрудов и сапфиров брошь, выполненная в виде небольшой бабочки.
Евсеев посадил чудное творение на руку, подошел к догорающей свече и залюбовался изяществом линий и филигранной техникой исполнения. Казалось, близкий огонь опалит крохотному созданию крылья.
– Я оставлю ее себе. А все деньги – твои, – не поворачивая головы в сторону напарника, очарованный игрой оттенков, хорошо различимых в тусклом свете, тихо проговорил интеллигентного вида молодой человек. Рамазан кивнул, не выразив особого удовольствия.
Они ушли, хлопнув дверью, оставив за собой еще одну смерть и новое горе. Кривые и темные улочки Подгорной слободы надежно скрывали два неясных силуэта, быстро растворившиеся в смоляном пространстве жаркой августовской ночи. А в треснутом блюдце, пустив белую струйку дыма, измученная увиденным, погасла свеча.