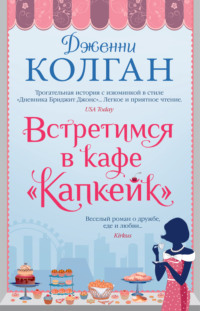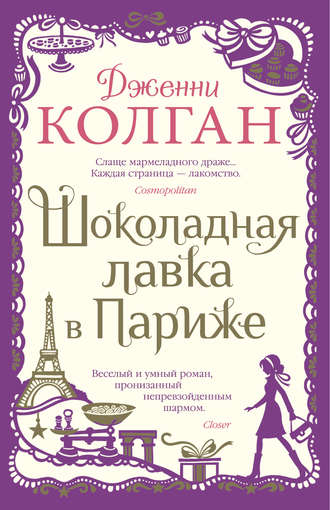
Полная версия
Шоколадная лавка в Париже

Дженни Колган
Шоколадная лавка в Париже
Название в точности отражает содержание! Если любите шоколад и Париж (или надеетесь когда-нибудь полюбить. Не волнуйтесь, вы непременно там побываете. А город сильно не меняется)… то эта книга написана для вас.
Дженни Колган© А. Д. Осипова, перевод, 2020
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2020
Издательство Иностранка®
От автора
В Париже много чудесных шоколадных лавок. Моя любимая – «Патрик Роже» на улице Фобур-Сен-Оноре. Очень рекомендую там побывать и отведать горячего шоколада, в какое бы время года вы ни приехали. Хозяина лавки, как нетрудно догадаться, зовут Патрик. У него кудрявые волосы, в глазах играют озорные искорки, и вообще вид у него очень хитрый.
В книге рассказывается не о какой-то конкретной шоколадной лавке. Скорее она иллюстрирует общее правило: когда люди посвящают жизнь делу, по-настоящему любимому и хорошо изученному, с ними происходят настоящие чудеса.
Говорят, что причина нашей любви к шоколаду в том, что он тает ровно при той температуре, которая поддерживается у нас во рту. Ученые еще рассуждают о выбросах эндорфина и тому подобном. Все это химические причины, но какими бы ни были объяснения, шоколад – штука замечательная.
Надо заметить, сладкое любят не только женщины. Не могу незаметно пронести в дом даже пакетик шоколадного печенья: муж обязательно учует и съест. Поэтому включила в эту книгу несколько очень вкусных рецептов. Хочу надеяться, что в более зрелые годы смогу готовить десерты с шоколадом, а не поглощать его, как только обнаружу дома или в машине.
Некоторое время назад мы переехали во Францию по работе мужа. С удивлением я узнала, что здесь к шоколаду относятся так же серьезно, как и к любой другой пище. «La Maison du Chocolat» – очень престижная сеть. Ее магазины есть в большинстве городов. Там можно обсудить с шоколатье, что именно вам нужно и что еще вы собираетесь подавать к столу. Это все равно что советоваться по поводу вина с сомелье. Но лично я ничуть не меньше радуюсь большой плитке «Dairy Milk» или «Toblerone» или моему самому любимому – «Fry’s Chocolate Cream» (без начинки). Наслаждаться можно не только деликатесами. Увы, мои дети уже достаточно большие, чтобы понимать, кто ворует у них шоколадки «Киндер». Дети, мне очень жаль, но я просто обязана открыть вам неприятную правду. Это делает ваш папа.
Перед тем как начнем, хочу сказать пару слов об иностранных языках. По моему опыту, учить другой язык ужасно трудно – если вы, конечно, не входите в число тех, кто все схватывает на лету. В таком случае могу сказать только одно (показывает язык): безумно вам завидую.
Обычно, когда герои книг разговаривают на иностранном языке, это каким-то образом обозначается. Но я решила так не делать. Все, с кем Анна общается в Париже, разговаривают с ней по-французски, если не указано обратное. Тут нам с вами остается только восхититься: удивительно! Как же ей удалось так быстро выучить французский? Конечно же, Клэр дала ей много уроков, но если вы когда-нибудь учили иностранный язык, то знаете: можно очень уверенно разговаривать на нем в классе, но стоит приехать в страну, как окажется, что все тараторят со скоростью миллион слов в час. Остается только запаниковать – еще бы, ведь ты не можешь разобрать ни словечка. По крайней мере, со мной было именно так.
В общем, считайте, что у Анны все точно так же. Но чтобы не повторяться и не отвлекаться от истории, опущу все те моменты, когда она спрашивает: «Что вы сказали?», или просит: «Повторите, пожалуйста», или заглядывает в словарь.
Надеюсь, книга вам понравится. Пишите, удалось ли приготовить что-нибудь вкусное по рецептам. И – bon appetit!
Дженни
Глава 1
Вот ведь что странно. Я сразу поняла: случилось что-то плохое. Очень плохое, ужасное, из ряда вон выходящее, чрезвычайно серьезное и при этом крайне унизительное для моего достоинства. И все равно смеялась не переставая. Буквально захлебывалась от смеха.
Вот я лежу на полу, с ног до головы залитая жидким шоколадом, хихикаю как дурочка и не могу остановиться. Надо мной склоняются какие-то люди. Некоторых я узнаю. Но никто, кроме меня, не смеется. Наоборот, все очень серьезны. Почему-то от этого еще смешнее.
– Убирай! – велел кто-то, кого мне с пола было не видно.
– Еще чего! – ответили ему. – Сам убирай! Фу, гадость какая!
А потом еще кто-то – наверное, Флинн, наш новый посыльный на складе, – сказал:
– Сейчас позвоню в девять-один-один.
– Флинн, не валяй дурака! – ответили ему. – Мы что, в Америке? У нас номер службы спасения – девять-девять-девять!
– По-моему, у нас теперь тоже есть номер девять-один-один, – возразил кто-то. – Пришлось завести – всякие придурки вечно пытаются по нему звонить.
Тут кто-то четвертый достал телефон и заявил, что вызывать надо «скорую помощь». Это мне тоже показалось смешным до колик. И тут я безошибочно узнала голос старушки Дэл, нашей ворчливой уборщицы. Она сказала:
– Ну, этот замес только на выброс годится.
Я представила, как шоколад с меня собирают обратно в огромный чан и пытаются продать, и захохотала с новой силой. Это же просто умора!
Потом, слава богу, ничего не помню. Правда, в больнице ко мне подошел фельдшер со «скорой помощи» и сказал, что в машине я ржала как ненормальная. Он, конечно, знает, что люди по-разному реагируют на шок, но чтобы настолько… Тут фельдшер заметил выражение моего лица и прибавил:
– Не расстраивайся, дорогуша, еще посмеешься.
Но в тот момент мне казалось, что я навсегда утратила способность смеяться.
– Дебс, милая, успокойся. Подумаешь, нога! Могло быть гораздо хуже. А если бы в лицо попало?
Это папа утешает маму. Он у меня оптимист.
– Тогда ей сделали бы новый нос. Она ужасно комплексует из-за носа.
Мама в своем репертуаре. Да, ей не мешало бы поучиться у папы во всем находить положительные моменты. Вот, уже рыдает. Хочу открыть глаза, но не могу: свет невыносимо яркий. Наверное, это не лампа, а солнце. Может, я на курорте? Ну, что не дома – это точно. В Кидинсборо, моем родном городке, солнце не светит в принципе. Три года подряд Кидинсборо уверенно занимал первое место в телеголосовании за худший город Англии, пока передачу не сняли с эфира из-за возросшей в связи с этим локальной политической напряженности.
Голоса родителей уплыли далеко, будто кто-то настраивал радио и переключился на другую волну. Интересно, они еще здесь или мне это только почудилось? Вроде лежу без движения, но чувство такое, будто корчусь и извиваюсь, пытаясь вырваться из тюрьмы собственного тела. Кажется, будто кричу во весь голос, но никто меня не слышит. Пытаюсь пошевелиться – бесполезно. Ослепительный свет сменяется чернотой, а чернота – ярким солнцем. Непонятно, сон это или явь. Если сон, то кошмарный. Ступни, пальцы ног, родители то появляются, то исчезают… С ума схожу – а может, уже сошла? Что, если вся остальная моя жизнь – сон? Да, именно: мне приснилось, что зовут меня Анна Трент, что мне тридцать лет и что работаю я дегустатором на шоколадной фабрике.
Так и быть, раз уж мы затронули эту тему, сразу отвечу на топ-10 вопросов, которые задают дегустатору на шоколадной фабрике в ночном клубе «Лица». Местечко так себе, но другие наши клубы еще хуже.
1. Да, бесплатные образцы попробовать дам.
2. Нет, я не такая толстая, какой, по вашему мнению, должна быть представительница моей профессии.
3. Да, у нас все так же, как в «Чарли и шоколадной фабрике». В точности.
4. Нет, в чан с шоколадом пока никто кучу не навалил[1].
5. Нет, моя работа не делает меня более популярной, чем большинство обычных женщин. Мне тридцать, а не семь.
6. Нет, от шоколада не тошнит. Я его просто обожаю. Но если вам эта мысль помогает примириться с нелюбимой работой – ради бога, не стану разубеждать.
7. Значит, в трусах у тебя есть кое-что слаще шоколада? Как интересно! (Картинно зевает.) (Примечание: хотелось бы набраться храбрости и отколоть такой номер на самом деле, но обычно я просто морщусь и отворачиваюсь. Всяких нахалов у нас отшивает моя лучшая подруга Кейт. Ну, или затаскивает их к себе в постель.)
8. Хорошо, непременно предложу руководству твою идею выпускать шоколад с арахисовым маслом, пивом, водкой, джемом и т. д. Но насчет того, что мы на ней озолотимся, ты, скорее всего, ошибаешься.
9. Да, я умею делать самый настоящий шоколад. Вот только на фабрике «Брэйдерс» он готовится автоматически в огромном чане, а я просто слежу за процессом. Конечно, хочется привнести в работу больше творчества, но, если верить нашему начальству, никому эти эксперименты не нужны. Покупатели любят, чтобы вкус у товара всегда был одинаковый и хватало нашей продукции надолго. Так что готовить шоколад – дело довольно однообразное.
10. Нет, это не лучшая работа на свете. Но это моя работа, и я ее люблю. Вернее, любила, пока не угодила сюда.
А потом обычно говорю: «Спасибо, я буду ром с колой».
– Анна!
В ногах моей кровати сидел мужчина. Я никак не могла сфокусировать на нем взгляд. Мое имя он знал, но кто это такой, я понятия не имела. Так нечестно. Я попыталась открыть рот, но кто-то насыпал туда песка. Спрашивается – зачем? Что за глупые шутки?
– Анна!
Опять тот же голос. Нет, не померещилось. Сомнений нет: звук исходит от силуэта в ногах моей кровати.
– Слышите меня?
«Попробуй не услышь! Сидите в ногах моей кровати и вопите во весь голос!» – хотела ответить я, но выдавить удалось только сдавленный хрип.
– Отлично. Замечательно! Хороший знак. Хотите воды?
Я кивнула. Согласиться проще всего.
– Хорошо, хорошо. Только кивайте осторожнее, а то датчики сместите. Сестра!
Откликнулась ли сестра на зов, не знаю: меня вдруг опять утянуло в черную бездну. Последняя сознательная мысль: интересно, ее не бесит, когда ей вот так орут: «Сестра!»? И еще: кажется, родители говорили, у меня что-то с носом – но что? Не помню.
– А вот и она.
Тот же самый голос.
Сколько времени прошло, я понятия не имею. Но свет, кажется, изменился. Резкая боль пробежала по телу, будто электрический разряд. Я охнула.
– Вот видишь! Скоро будет как новенькая.
Это, конечно, папа.
– Ох, не нравится она мне.
Мама.
– Можно стакан воды? – попросила я, но получилось только: «Мо ста ды?»
К счастью, рядом оказался кто-то, понимавший язык людей, у которых во рту пустыня. К моим губам тут же приложили пластиковый ободок. Этот крошечный стаканчик чуть теплой водопроводной воды с привкусом мела – лучшее, что я пробовала за всю жизнь. Даже считая тот раз, когда впервые ела шоколадное яйцо «Crème Egg». Я с жадностью проглотила воду. Попросила еще, но мне ответили: «Нельзя». Вот так – нельзя, и все. Неужели я в тюрьме?
– Можете открыть глаза? – спросил тот же повелительный голос.
– Конечно может.
– Ой, не знаю, Пит. Ой, не знаю.
Как ни странно, именно мамино отсутствие веры в мою способность поднять веки заставило меня поднапрячься как следует. Картинка появилась, потом пропала, и вот наконец передо мной замаячила размытая фигура, сидевшая на краю кровати. Я ее уже видела. Ну сколько можно? А рядом – еще две фигуры, такие родные и знакомые.
Я узнала рыжеватый оттенок маминых волос. Она красится дома, хоть Кейт и предлагала ей салонное окрашивание почти бесплатно – вернее, бесплатно, по мнению Кейт. По маминому мнению, цена заоблачная. А еще мама считает Кейт распущенной. Что правда, то правда, но ведь на талант парикмахера это не влияет. А таланта парикмахера у Кейт, увы, кот наплакал.
Вот почему каждый месяц мама неделю ходит с ободком хны вверху лба: это остатки несмывшейся краски.
Заметив, что папа надел лучшую рубашку, я забеспокоилась всерьез. Папа наряжается только на свадьбы и похороны, а мне замужество в ближайшее время определенно не светит. Разве что если Дарр превратится в нового человека, с другим типом внешности и характера. Впрочем, это весьма маловероятно.
– Привет, – выдавила я и тут почувствовала: пустынные пески отступают.
Стена между реальным миром и песчаной бурей забытья и боли рухнула. Анна вернулась, и теперь я на сто процентов уверена: это определенно мое тело.
– Девочка моя!
Мама разразилась рыданиями. Папа к бурным выражениям чувств не склонен и просто осторожно взял меня за руку. За свободную, а не за ту, где под кожу уходила здоровенная трубка. В жизни ничего отвратительнее не видела.
– Фу, – протянула я. – Это что? Гадость какая!
Фигура в ногах кровати снисходительно улыбнулась.
– Уверяю, без этой трубки было бы еще гадостнее, – заметил мужской голос. – Через нее в ваш организм поступает обезболивающее и другие лекарства.
– Что-то оно у вас слабовато поступает, – заметила я.
Меня снова молнией пронзила боль: от пальцев левой ноги по всему телу.
Тут я заметила другие трубки, причем некоторые из них выходили из мест, которые при папе лучше не упоминать, и притихла. До чего же странно я себя чувствовала!
– Голова закружилась? – спросил любитель сидеть на моей кровати. – Это нормально.
Мама все еще всхлипывала.
– Мама, все хорошо.
От ее ответа меня пробрала холодная дрожь.
– Нет, милая. Что уж тут хорошего? Вообще ничего!
Следующие несколько дней я засыпала ни с того ни с сего, в любое время. Доктор Эд – нет, серьезно, именно так он себя и называет, будто доктор из телепрограммы, – приходил и садился в ногах моей кровати. Другие врачи так не делали, а он сидел и смотрел мне в глаза – видно, очень старался общаться со мной как с человеком, а не как с пациенткой. Но мне больше нравился высокомерный консультант: он заходил раз в неделю, меня едва удостаивал взглядом и задавал своим студентам всякие каверзные вопросы.
Но благодаря дружеским беседам с доктором Эдом постепенно я начала припоминать, что же все-таки со мной стряслось. Я поскользнулась на фабрике. Сотрудники сразу оживились: вдруг администрация нарушила технику безопасности и все мы вот-вот станем миллионерами? Но оказалось, вина целиком и полностью моя. День выдался не по-весеннему жаркий, и я решила выгулять новые туфли. Выяснилось, что для хождения по фабричным полам они, увы, не приспособлены. Нога поехала, и меня непостижимым образом угораздило врезаться в лестницу возле чана и опрокинуть все: и лестницу, и чан. А потом меня привезли в больницу, и с тех пор я лежу здесь и болею.
– На меня инфекция напала? – спросила я у доктора Эда. – Странное выражение – «инфекция напала». Как будто меня укусило какое-то насекомое.
– Вроде того, – доктор улыбнулся.
Зубы у него такие белые, что глаза слепят. Вряд ли это у него от природы. Наверное, и впрямь на телевидении работать собирается.
– Но ваше насекомое, Анна, совсем маленькое: всего лишь крошечный паучок.
– Пауки не насекомые, – проворчала я.
– Ха-ха! Верно.
Доктор Эд убрал волосы со лба.
– Эти насекомые совсем малюсенькие. Даже если бы у меня на пальце их сидела тысяча штук, вы бы не разглядели. Вот какие они крошечные.
Наверное, в моей медицинской карте опечатка: в графе «возраст», похоже, написано, что мне восемь, а не почти тридцать один.
– Какая разница, большие они или маленькие? – пробормотала я. – Главное, что из-за них чувствую себя дерьмово.
– Вот поэтому мы и бросили на борьбу с ними весь доступный арсенал! – возвестил доктор Эд.
Ни дать ни взять Супермен или другой какой-нибудь супергерой. Я не стала говорить, что, если бы они у себя в больнице убирали как следует, инфекция ко мне не привязалась бы.
А самочувствие у меня и впрямь отвратительное. Про еду даже думать не хочется, пить могу только воду. Папа принес мне зефир. Мама чуть не побила беднягу: отчего-то она вообразила, что зефир застрянет у меня в глотке и я отброшу коньки прямо у родителей на глазах.
Бóльшую часть времени я сплю, а когда бодрствую, сил ни на что нет: ни смотреть телевизор, ни читать, ни разговаривать по телефону. Если верить моему телефону (кто-то – наверняка Кейт – воткнул его в розетку возле кровати. Время от времени тайком его проверяю), у меня накопилась куча сообщений на «Фейсбуке». Но просматривать их неохота.
Чувство такое, будто что-то изменилось. Кажется, что я очнулась иностранкой или очутилась в чужой стране, где никто не понимает моего языка: ни мама, ни папа, ни друзья. Мой язык – язык сумбурных дней, полных отрывочных, непонятных событий. Язык непрекращающейся боли. Двигаться так тяжело, что даже рукой пошевелить – непосильная задача. От одной мысли об этом устаешь. Страна больных совсем не похожа на страну здоровых. Здесь тебя кормят, переворачивают, разговаривают с тобой, как с ребенком, и тебе всегда, всегда жарко.
В моих лихорадочных снах школа присутствует часто. Я терпеть ее не могла. Мама всегда говорила, что ей учеба давалась тяжело, а значит, и я на ниве знаний успехов не достигну. Это и решило вопрос. Хотя, оглядываясь назад, понимаю: звучит по-идиотски. Поэтому, когда в галлюцинациях передо мной являлись лица учителей, я долго не воспринимала эти видения всерьез. Но потом однажды проснулась очень рано – в больнице еще царила приятная прохлада и тишина. Вернее, относительная тишина, полного покоя в больницах не бывает никогда.
Я осторожно повернула голову – и вот передо мной сидит миссис Шоукорт, моя старая учительница французского, и невозмутимо глядит на меня. И это не сон, и не галлюцинация.
На всякий случай я моргнула: вдруг исчезнет? Нет, бесполезно.
Я лежу в маленькой узкой палате на четыре места. Странно: если у меня инфекция, значит я заразная, а заразных положено изолировать. Остальные кровати пустуют, но за время моего пребывания в больнице здесь побывало много старушек, быстро сменявших друг друга. Они лежали тихо, только иногда плакали.
– Здравствуйте, – проговорила миссис Шоукорт. – Кажется, мы с вами знакомы.
Я залилась виноватым румянцем, будто уроки не сделала. Впрочем, уроки я не делала никогда. Мы с Кейт постоянно прогуливали – да кому он нужен, этот французский? Сбегали, сидели на заднем дворе – из школьных окон он не просматривался – и с фальшивым манчестерским акцентом обсуждали, какая дыра Кидинсборо и как мы уедем отсюда при первой же возможности.
– Анна Трент, верно?
Я кивнула.
– Я вела у вас уроки два года.
Я пригляделась к старушке повнимательнее. Из ряда других учителей миссис Шоукорт выделялась тем, что одевалась лучше всех: большинство остальных выглядели как бродяги. А миссис Шоукорт носила красивые платья по фигуре. Ее элегантность мгновенно бросалась в глаза. Сразу видно, что не в «Маталане» покупала. А еще тогда у нее были светлые волосы…
Тут я вздрогнула от потрясения – только сейчас заметила, что волос у миссис Шоукорт вообще не осталось. А еще она совсем исхудала. Конечно, миссис Шоукорт всегда была миниатюрной, но не до такой же степени!
Я задала самый тупой вопрос из всех возможных – оправданием мне служило только ужасное самочувствие:
– Тоже болеете, да?
– Нет, – ответила миссис Шоукорт. – Просто отдыхаю.
Повисла пауза. Я улыбнулась. Только сейчас вспомнила: а ведь миссис Шоукорт была хорошей учительницей.
– Жаль, что так получилось с вашей ногой, – смущенно произнесла миссис Шоукорт.
Я поглядела на забинтованную левую ступню.
– Ничего страшного. Просто неудачно упала, и все.
А потом я увидела ее лицо и поняла: все это время люди говорили про мою лихорадку, болезнь, несчастный случай, но никто не удосужился рассказать мне всю правду.
Нет, не может быть! Я ведь их чувствую.
Потрясенно я уставилась на миссис Шоукорт. Та, не мигая, смотрела на меня в ответ.
– Я ведь их чувствую, – промямлила я.
– Как же вам не сказали? Уму непостижимо! – покачала головой миссис Шоукорт. – Чертовы больницы!
Я опять поглядела на забинтованную ногу. Меня сразу замутило, а потом стошнило в специальную картонную коробку – возле кровати их оставлен целый набор.
Чуть позже пришел доктор Эд и опустился на край кровати. Я едва не испепелила его взглядом. Доктор заглянул в свои записи и произнес:
– Простите, Анна. Мы думали, вы осознаете всю серьезность ситуации.
– Осознаешь тут, когда все только бормочут про «несчастный случай» и «неприятные последствия», – сердито бросила я. – Как я должна была догадаться, что у меня теперь нет пальцев? И вообще, я их чувствую. Болят так, что еле терплю.
– К сожалению, так часто бывает. – Доктор Эд кивнул.
– Почему мне никто не сказал? Только мололи чушь про лихорадку и мелких насекомых.
– В подобных случаях инфекция опаснее всего. Сама по себе утрата пары пальцев на ноге вашей жизни вряд ли угрожает, но заражение…
– Приятно слышать. И это не какая-то «пара пальцев»! Это мои пальцы!
Пока мы разговаривали, медсестра осторожно разматывала бинты на моей ступне. Я нервно сглотнула. Только бы еще раз не вырвало.
Вы в школе играли в такую игру: ложишься на живот, закрываешь глаза, а кто-нибудь поднимает твои руки высоко над головой и потом очень медленно опускает? При этом складывается полное ощущение, будто засовываешь руки в дыру.
Вот и сейчас я ощутила нечто похожее. Мой мозг никак не мог осмыслить то, что видели глаза. То, что я знаю, – одно дело, а то, что чувствую, – совсем другое. Пальцы ног у меня на месте. Все до единого. Но перед глазами странный, идущий сверху вниз срез: выглядит так, будто два крошечных пальчика снесли одним махом – просто чиркнули остро наточенной бритвой, и все.
– Вообще-то, вам крупно повезло, – рассуждает между тем доктор Эд. – Лишись вы большого пальца или мизинца, очень трудно было бы держать равновесие…
Я уставилась на доктора так, будто у него рога выросли.
– Повезло? – возмутилась я. – Хорошенькое везение!
– А я бы с вами местами поменялась, – донесся голос из-за соседней ширмы.
Там миссис Шоукорт ожидала следующего сеанса химиотерапии.
Вдруг мы обе ни с того ни с сего расхохотались.
Прошло три недели, а я все валяюсь в больнице.
Многие друзья приходили меня навестить. Рассказывали, что про меня написали в газете, и спрашивали, можно ли взглянуть на мою ногу. Нет, нельзя: даже я сама стараюсь на нее не смотреть, когда меняют повязки.
Друзья делились со мной свежими местными новостями, но я вдруг утратила к ним интерес. Единственный человек, с которым я могу нормально разговаривать, – миссис Шоукорт. Вот только она велела обращаться к ней «Клэр», к чему я привыкала долго и трудно. Называя старую учительницу просто по имени, чувствовала себя более взрослой – даже слишком взрослой. У миссис Шоукорт два сына, они ее навещают, но всегда спешат, зато ее невестки – приятнейшие женщины. Всегда оставляют мне журналы со сплетнями про звезд: Клэр все эти глупости не интересуют. Как-то раз невестки привели двух маленьких девочек. Обеих напугали и проводки, и больничный запах, и писк приборов. Ни до, ни после я не видела Клэр такой грустной.
А в свободное время мы говорим. Вернее, говорю в основном я. По большей части жалуюсь на скуку и сетую, что никогда не смогу нормально ходить. Удивительное дело – раньше на пальцы ног не обращала внимания. Ну, разве что когда делала педикюр, но даже тогда не особо о них задумывалась. А теперь выяснилось, что эти, казалось бы, незначительные части тела играют до обидного важную роль во всем, что касается передвижения. Но еще больше мне стыдно, когда приходится посещать тот же физиотерапевтический кабинет, что и люди с ужасными, по-настоящему серьезными травмами. Эти бедняги сидят в инвалидных креслах, а я, как наглая самозванка, марширую туда-сюда, держась за параллельные брусья! Мое ранение для них в лучшем случае повод для шуток. Так что жаловаться я не имею права. Но жалуюсь, и еще как.
Клэр меня понимает. С ней легко и просто. Иногда, когда она чувствует себя особенно плохо, читаю ей вслух. Но большинство ее книг на французском.
– Нет, французские книги мне не по зубам, – однажды заявила я.
– А должны быть по зубам, – заметила Клэр. – Тебя ведь учила я.
– Ну да, – пробормотала я.
– Ты была способной ученицей, – продолжила Клэр. – Помнится, подавала большие надежды.
Вдруг перед глазами у меня встал табель успеваемости за первый год средней школы. Среди многочисленных замечаний вроде «несерьезно относится к учебе» и «способная, но ленивая» скрывалась хорошая оценка по французскому. Ну почему я была такая ленивая и несерьезно относилась к учебе?
– Мне учеба казалась глупостью, – проговорила я.
Клэр только головой покачала:
– Я же разговаривала с твоими родителями. Очень милые люди. Ты девочка из хорошей семьи.