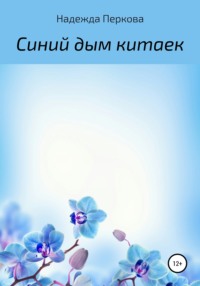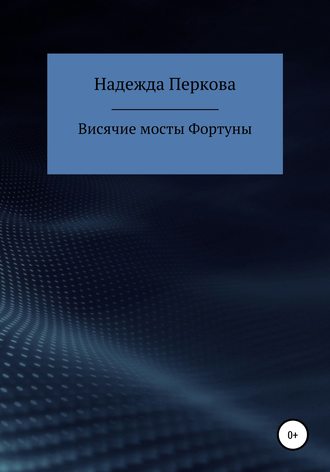 полная версия
полная версияВисячие мосты Фортуны
Наш колхозный куратор, вузовский преподаватель советской литературы, мужчина лет тридцати пяти, был замечателен тем, что имел поразительное сходство с Лениным: походка, жесты, в какой-то мере даже стиль поведения – всё было ленинским. Благодаря этому сходству он играл в самодеятельных спектаклях роль вождя мирового пролетариата, на что получил официальное разрешение в высших партийных инстанциях области.
Всех поведенческих нюансов вождя натура нашего куратора не отражала – в колхозе он был гегемон и авторитарий, без всяких там ласковых прищуров.
Наша работа состояла в том, что мы выбирали из земли вырытую комбайном картошку и вёдрами сносили её в кучу. «Ленин» и ещё один юный ассистент кафедры русского языка, Анатолий Балакай, сидели на картофельной куче и вели подсчёт вёдер. Время от времени, чтобы поразмяться, «Ильич» брал лопату и шёл за нами следом, приговаривая: «А вот я сейчас проверю вашу совесть, вот сейчас проверю…» Он поддевал землю лопатой и, если обнаруживал оставленную в земле картошку, высоко поднимал её над головой, патетически восклицая: «Вот она, ваша совесть!!» Мы с наигранным смущением опускали глаза, хихикая и переглядываясь из-под опущенных ресниц…
Перед отбоем устраивалась вечерняя поверка. «Ильич» заходил в нашу девичью спальню (огромный спортзал, уставленный койками) и выкликал фамилии по списку. Девочки, стараясь принять позы пококетливей, мелодично отзывались ему, но только в очень редких случаях он задерживал на ком-нибудь свой взгляд: «Очаровательно», – ровно на секунду ленинское лицо теплело мужской улыбкой…
В столовой его широкие руководящие жесты и энергичные повороты корпуса выглядели особенно эффектно. «Что, нет сметаны? Забелите молоком!» – указующий перст в кастрюлю…
И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди,
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди…
Иллюзия, что в колхозе мы работали под руководством Ильича, сложилась полная…
* * *
Начались занятия в институте. Наша дружба с Машей продолжилась. Она жила в институтском общежитии, в комнате на четырёх человек. Кроме неё, там проживали Нина Иванова из Таштагола, Таня Шаркунова из Новосибирска и Надя Черепанова из Чугунаша – сама Маша была из деревни Безруково, что в сорока километрах от Новокузнецка. Наверно, к вопросу подбора студентов для совместного проживания администрация подходила серьёзно: у Маши и Нади отцы были директорами школ, Танин папа служил в КГБ, одна Нинка Иванова была из простых и отличалась бесшабашностью и легкомыслием. На первом курсе она выскочила замуж за таштагольского парня, через неделю заложила обручальное кольцо в ламбард, через месяц они развелись. А вообще её жизнь сложилась довольно удачно: она вышла замуж за крымчака и до самой пенсии работала в Артеке, благодаря ей Артек стал постоянным местом
встреч институтских друзей по общаге…
Я любила бывать в их комнате и даже немного завидовала их гуртовой жизни и свободе, хотя, сказать по правде, мои родители на мою свободу никогда не покушались…
От нашего дома до института – рукой подать, нужно всего лишь перейти узкий деревянный мостик через Абушку – и вот она, альма матер!
Река Аба – это притча во языцах нашего города. Наверно, до начала индустриализации она была светлой, радующей глаз речушкой, пока возникший из ниоткуда гигантский чудовище-комбинат не принялся осквернять её своими отходами.
Чистая речка превратилась в сплошной поток мазута, переливающегося на солнце всеми цветами радуги. Опозоренная, расцвеченная, как публичная девка, влечётся она с тех пор по центру города, прячась под мостами и создавая им дурную славу. Тёмное притягивает тёмное: под главным городским мостом нередко обнаруживались страшные находки.
«Под мостом на Металлургов опять нашли изуродованный труп женщины», – такое часто можно было услышать в очереди у кассы в гастрономе. Я мертвела: матери, возвращавшейся с работы, приходилось ходить через этот мост по ночам…
Время моей учёбы в институте выпало на моду мини. Подолы юбок подвергались безжалостному обрезанию, особо смелые заходили очень далеко, то есть высоко – аж до тазобедренного сустава.
Когда после первого курса я встретила в институте Григория Александровича, он, оглядев меня, спросил:
-– Надя, в чём дело? По-моему, с ногами у вас всё в порядке, почему же платье не короткое?
-– Как, разве не короткое? Мне кажется, в пределах нормы – на ладонь выше колена.
Учитель из Горной Шории указал мне на мой консерватизм!! Боже, как всё запущенно! Пришлось браться за ножницы и укорачивать, но не на много: очень короткое платье выглядело, на мой вкус, слишком вульгарно, правда, спустя некоторое время я переменила своё мнение.
Мои институтские подруги новую моду освоили сходу. Таня Шаркунова рассказывала, что когда они входили в ресторан в своих мини (а ходили они туда всей комнатой довольно часто), от мужских столиков к их ногам тянулись жадные руки – она забавно изображала эти бестыжие руки и сладострастно прижмуренные глаза. Что и говорить, для мужчин такая мода, наверняка, была отрадным явлением…
* * *
От лекций я ожидала большего, но, видимо, чтобы засеять целину нашего невежества, и того было достаточно, а ежели кому-то недостаёт, можно и в библиотеке добрать…
Профессор на кафедре литературы был всего один, Алексей Фёдорович Абрамович, историческая личность: видел живым самого Горького. Он хранил у себя раритетный документ – пропуск на первый Всесоюзный съезд советских писателей за подписью основоположника соцреализма. Именно профессор Абрамович сумел заинтересовать меня романом Горького «Жизнь Клима Самгина». С его слов, Горький настаивал, чтобы ударение в фамилии Самгин падало на первый слог, так как она образована от местоимения «сам», а целью романа было разоблачение причин ренегатства интеллигенции в революции…
На меня роман Горького оказал почти такое же воздействие, как впоследствии «Мастер и Маргарита». Богатство духовной и интеллектуальной жизни в предреволюционный период в среде образованной молодёжи, психологизм, обилие эротических сцен – всё это настолько захватывало, что я с удовольствием прочла его от корки до корки. Вот не ожидала от Горького!!
Роман оказался интересным прежде всего выбором главного героя, вернее, антигероя. Скрупулёзно, с болезненным пристрастием изучая закоулки мелкой и вялой души Клима Самгина, писатель как будто старается ответить себе самому, за что же всё-таки он так его ненавидит. Самое горькое для Горького, наверно, заключалось в том, что и в самом себе он находил некоторые черты своего антигероя. Коварство этого несимпатичного образа заключалось в том, что он провоцировал тревожное беспокойство в читателе: а я-то всё ли о себе знаю? А нет ли и во мне той изворотливости ума, умеющего оправдать любую свою подлость? По крайней мере, во мне он вызывал такие вопросы…
Позже я нашла описание самгинского типа в Откровении Святого Иоанна Богослова, а именно в Послании Ангелу Лаодикийской церкви:
откровение 3:15. знаю дела твои; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч!
откровение 3:16. Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих.
Умеренная температура души, отсутствие сильных чувств, неумение жертвовать чем-то своим, малодушное поведение в минуты опасности, самость – всё это, по мнению профессора Абрамовича, осудил Горький в той части русской интеллигенции, которая не смогла принять революцию…
Первым экзаменом первой сессии была история КПСС, и я сдала её на «пять». Конечно, я не знала и на слабенькую тройку, но есть такой редкий тип преподавателей, которых я просто обожаю: они чувствуют момент, когда нужно произнести спасительное слово «достаточно». Таким был Юрий Алексеевич Иванов, он остановил меня сразу после того, как я изложила ему суть «Кредо» мадам Кусковой, которое мы обсуждали на семинаре. Если бы не остановил, дальше была бы тишина и заплыв на длинную дистанцию. Маше Антош тот же тонкий и деликатный Юрий Алексеевич почему-то поставил двойку. Кто их поймёт, этих экзаменаторов!
Практикум по русскому языку в нашей группе вёл молодой ассистент, мы занимались в основном комментированным письмом по Розенталю. Преподаватель, не намного старше нас, держался просто, но не запанибрата. Моя задремавшая было влюбчивость, подняла голову и пригляделась: юный брюнет с горячими глазами хорош, но слишком уж серьёзен, да и кольцо на безымянном пальце правой руки как-то охлаждало легкомысленные порывы. Как же его звали?
Пришлось позвонить Маше Антош:
-– Маш, помнишь у нас на первом курсе вёл практикум по русскому такой маоденький-маоденький, «губы как кровь, чёрная бровь»? Он ещё в колхоз с нами ездил, фамилия, кажись, на Б…
-– Балакай что ли?
-– Точно! Балакай Анатолий, отчества не помню. Не знаешь, как у него карьера сложилась?
-– Не знаю. Знаю, что он умер в прошлом году.
Боже! Как обухом по голове.
Набрала в
G
оо
gl
е
«Балакай Анатолий» – сразу открылось: «известный российский учёный-лингвист, автор словаря речевого этикета, профессор кафедры русского языка КузГПА». С фотографии глядело строгое, даже немного желчное лицо, в котором я не находила ни одной знакомой черты, зато на другом фото, ниже, я увидела того самого чернобрового, черноглазого… Сквозь слёзы, застилавшие мои глаза, на чёрно-белом снимке вдруг начали проступать прежние краски этого лица… Кто он был по национальности? Балакай. Украинец?
Googl
е
ответил мне и на этот вопрос. Такую фамилию получали греки-переселенцы на Украине. «Ты балакай по-нашему», – говорили им местные. Да, на грека он был похож и на крымского татарина тоже…
* * *
Ещё до начала зимней сессии я получила письмо из Новосибирска, оно было примерно такого содержания: «В мой последний приход твоя соседка выдала: «Надя сказала, что её нет дома»… Я понимаю, Надя, что виноват перед тобою. Но всё же хочется ясности: могу я быть прощённым тобой или нет? Если можешь простить – прости… Галя Николаева оказалась совершенно чужим, неинтересным мне человеком…»
Неужели чужим? Кто бы мог подумать? Про метаморфозы со шкалой ценностей уже ни слова – догадайся, мол, сама…
Цена, цену, ценой, ценою, о цене…
Я не торопилась с ответом: мне хотелось ещё немного побыть ничьей, свой собственной. А потом… как там у Марины Ивановны:
Что мне, ни в чём не знавшей меры,
Чужие и свои?!
Я обращаюсь с требованьем веры
И с просьбой о любви.
И день и ночь, и письменно и устно:
За правду ДА и НЕТ,
За то, что мне так часто – слишком грустно
И только двадцать лет,
За то, что мне прямая неизбежность –
Прощение обид.
За всю мою безудержную нежность
И слишком гордый вид …
«Прямая неизбежность – прощение обид», а иначе как же?
Через пятнадцать лет, зная, что я очень люблю Цветаеву, в день своего рождения, двадцать первого марта, муж Юра прислал мне из Афганистана, из города Джабаль-Уссарадж, томик стихов Марины Ивановны с надписью:
«Сделать подарок тебе –
большая радость. Я дарю
себе эту радость в день
своего 35-летия»
* * *
Мы с мамой по-прежнему жили в коммуналке на Пирогова, а отцова комната на Покрышкина пустовала: бабушка давно умерла, отец жил в бараке у Таськи. В один из его визитов я предложила ему: «Пап, давай обменяем наши комнаты на двухкомнатную квартиру». Отец, не раздумывая, согласился.
В семидесятые не было никаких агентств недвижимости, не существовало даже слова «риелтор» – писали от руки объявления, вешали у главпочтамта и ходили к определённому часу на сходку. В результате таких сходок у почты, нашлась покупательница: желающих разъехаться всегда больше тех, кто хочет съехаться. Месяца через три от начала поисков, собрав и оформив все необходимые документы, мы переехали на улицу Циолковского в двухкомнатную хрущовку с балконом… Вскоре я перевелась на заочное отделение и отправилась к первому месту службы мужа – в город Хабаровск…
Приехав на летнюю сессию в Новокузнецк, я несказанно обрадовалась, увидев идиллическую картину: блудный отец вернулся
в лоно семьи – все были довольны и счастливы. Но настоящая сенсация ждала меня утром следующего дня.
Выйдя из маленькой комнаты, где спали мы с Лёлькой, я застыла на месте, остолбенела, можно сказать, как жена Лота, не в силах сдвинуться с места и отвести взгляд от разложенного посреди комнаты дивана. На нём под одним одеялом лежали они – мой отец и моя мать! Трудно поверить, но я впервые в жизни видела их лежащими вместе!
На этой идиллической ноте я было хотела закончить свою повесть, но вспомнилась ещё одна прекрасная картина, когда я видела своего отца совершенно счастливым, и мне захотелось описать её…
Так мало счастья и так много лишений выпало на долю моих родителей, что сердце сжимается от той несправедливости, с которой им пришлось столкнуться уже на старости лет.
Мой отец работал до последнего дня своей жизни и умер от приступа бронхиальной астмы в такси по дороге на работу. За каждый баллончик дефицитного лекарства ему приходилось бесплатно рисовать для поликлиники какую-нибудь наглядную агитацию, потому что в аптеке этого лекарства не было, а то, что имелось там в наличии, обладало сильно выраженными побочными действиями и приносило больше вреда, чем пользы.
Отец знал, что рано или поздно грудная жаба доконает его, поэтому в нагрудном кармане пиджака всегда держал записку с домашним адресом, по ней таксист и доставил его прямо к подъезду…
Часть четвёртая
Бикин
Не так живи, как хочется…
А. Н. Островский
Для моего отца счастливым оказалось лето, проведённое с нами в городе Бикине Приморского края. Это было второе, после Хабаровска, место службы моего мужа. Окончив училище с красным дипломом, Юра имел возможность выбирать, где ему служить. Можно было поехать в Германию – вожделенную мечту всех военнослужащих – но мы выбрали Дальний Восток: «не созданы мы для лёгких путей»…
Бикин – маленький городишко на границе с Китаем, где, почитай, все дома деревянные. Мы жили в деревянном офицерском доме, ходили в деревянную городскую баню, я устроилась на работу в деревянную вечернюю школу, Миша ходил в деревянный детский сад – кирпичными были только солдатские казармы да Дом офицеров…
Мы прибыли туда спустя несколько лет после событий на Даманском. Напомню, Даманский – маленький пограничный остров на реке Амур. В 1969 году там произошёл вооружённый конфликт, в результате которого погибли 58 наших военнослужащих – граждан КНР погибло тогда 800 человек. Такие несоразмерные потери объясняются тем, что с нашей стороны была применена ракетная система «Град».
Теперь этот клочок земли на Амуре площадью 0,74 квадратных километра в переводе с китайского называется Драгоценный остров. На острове – в настоящее время это уже не остров, а полуостров, соединённый с берегом насыпной землёй – установлен обелиск с именами погибших китайцев, возле которого китайские пограничники принимают присягу… Спустя четверть века после событий на Даманском, благодаря разработанному КНР в 70-е годы методу «отложенного спора», суть которого сводится к тому, что решение спорного вопроса выносится за рамки двухсторонних международных соглашений до тех пор, пока не «созреют условия», благоприятные и приемлемые для Китая. Благодаря такой тактике Китай за 25 лет получил от России столько земли, сколько не мог заполучить в течение полутора веков, в том числе 337 квадратных километров островной земли на реках Амур и Уссури…
Военный конфликт на Даманском нашёл отражение в фильме «Русское поле». Из этого фильма я помню всего один лишь эпизод: мать убитого в бою с китайцами сына склоняется над его гробом (мать играла Нонна Мордюкова, а сына – Владимир Тихонов). Внешность сына чудесным образом соединила в себе красоту лиц обоих родителей… Только одно это трагическое мёртвое лицо и осталось в памяти…
Через двадцать лет для Мордюковой эта сцена вновь повторилась, только не в фильме, а наяву, и у гроба сына стояла уже не одна мать, но и отец, Вячеслав Тихонов – их сын Владимир погиб от передозировки наркотиков.
Проблема наркомании в нашей стране замалчивалась до тех пор, пока не достигла такого масштаба, что уже не скроешь, только тогда о ней начали говорить – нет, не в новостях, а на учительских конференциях, где-то ближе к концу восьмидесятых. С учителями даже провели спецзанятие, где объянили, как распознавать наркомана по внешнему виду, по особенностям поведения, а также ознакомили с наркоманской лексикой: трава, колёса, дурь, ширнуться, приход…
Слава богу, среди моих учеников не было ни одного наркомана.
Когда спустя семь лет после событий на Даманском мы приехали в Бикин, угроза локальной войны на границе с Китаем была более, чем реальной: китайские провокации на пограничных островах происходили по нескольку раз на день. Наших офицеров то и дело поднимали по тревоге, и жёны никогда не знали, учебная это тревога или боевая. Муж неделями пропадал на этих клятых островах.
Местное население спешило покинуть город до начала боевых действий.
«Только бы успеть, только бы успеть!» – твердила завуч вечерней школы, куда меня приняли на работу (в обычной школе вакансий не оказалось). Бросив дом и пожитки, она уехала к сестре на Урал – завучем назначили меня.
В школе занятия шли утром и вечером: приходилось подлаживаться под рабочий график учеников. Контингент был самый разный: рабочие с лесопилки, строители, прапорщики, курсанты музвзвода мотострелковой части, но самыми необычными учениками были «химики»…
Вспомнился один анекдотический случай, связанный с «химиками».
В бикинские школы из Хабаровского пединститута по распределению прислали молодых специалистов. Один из них, вернее, одна, познакомившись на вокзале с молодым человеком, сообщила ему между прочим, что приехала работать в среднюю школу по направлению, – тот, почему-то очень оживившись, спросил:
-– А вы кто по специальности?
-– Физик, – простодушно ответила девушка, не чувствуя подвоха.
-– А я химик – будем знакомы! – широко, но как-то глумливо улыбаясь, протянул руку «коллега».
Подвох состоял в том, что «химиками» в народе называли зэков, находящихся в ссылке на строительных объектах народного хозяйства. На «химию» обычно попадали зэки из мест лишения свободы, реже – прямо из зала суда. Сразу после принятия этого закона осужденных отправляли исключительно на строительство химических комбинатов – отсюда и пошло выражение «отбывать срок на химии», но в скором времени ареал их применения сильно расширился… Те, кто в колонии был отобран начальством работать на стройке, считались везунчиками: они жили в отдельных общежитиях, получали зарплату, пользовались, хоть и ограниченной, но свободой.
Человек десять таких «химиков» учились в нашей школе, и надо сказать, что это были самые надёжные ученики: в отличие от остальных, они никогда не пропускали занятий, были активны на уроках, дисциплину не нарушали. За любое нарушение правил поведения их строго наказывали: сажали в карцер (специально отведенная комната на первом этаже общежития). Больше всего «химики» боялись отправки на зону, поэтому всегда были отменно вежливы и послушны.
Помню только один отвратительный номер, который отмочил (в прямом смысле этого слова) самый пожилой из зэков в конце учебного года. Неглупый, умеющий размышлять и задавать интересные вопросы, он был обходителен и улыбчив с учителями, а на директора смотрел с нескрываемым подобострастием – начальник! Но на выпускном вечере старый «химик» напился в хлам и был обнаружен лежащим в вонючей луже на карте СССР в кабинете истории (преподавал историю сам директор) – извольте радоваться, уважаемый Василий Матвеевич!
Наш директор, Василий Матвеевич Смецкой, всем своим видом внушал уважение. Фигурой и походкой он напоминал состарившегося Собакевича. В грубой лепке его лица наблюдалась некая ярусность: над тяжёлым, нависшим лбом свисал косой, побитый сединою чуб, над глубоко посаженными, цепкими, серовато-белёсыми глазами нависали кустистые, тронутые седой изморозью брови, крупный рыхлый нос нависал над большим мягким ртом любителя поговорить. Сам он не был толстым, но всё по отдельности в нём выглядело толсто, казалось, даже язык во рту тоже был толст. Язык не полностью подчинялся директору: вместо буквы «Ф» он произносил «ХВ»: «хвевраль», «потхвельчик» – несмотря на этот и другие дефекты речи, он был неутомимый говорун.
По старости лет Смецкой был разжалован из заведующего гороно в директора вечерней школы. Порядок в школе при нём был идеальный: школа блистала чистотой и ухоженностью. Между первым и вторым этажами, на лестничной площадке, висел уютный ростовичок Ленина в кепке. Ильич лукаво щурился, привечая каждого поднимавшегося по ступеням, и снисходительно смотрел вслед удаляющимся… Деревянная, без потёртостей, блестевшая свежей охрой лестница была увешана вазончиками с вьющимися растениями. В школе было теплее, чем у нас дома: кочегары работали не за страх, а за совесть, которую, однако, не забывал контролировать наш вездесущий директор.
В школу Смецкой приезжал на мотороллере. Собравшись куда-нибудь ехать, он всегда предлагал нам свои транспортные услуги, но, имея опыт одной поездки с ним, на вторую уже никто не решался…
От долгой работы на должности завгороно у Василия Матвеича остался один неизжитый пунктик – совещания. Каждый день он хоть на десять минут, да соберёт всех в учительской, чтобы дать какие-нибудь ценные указания. Нас, молодых и нетерпеливых, раздражала его въедливая дотошность.
Читать тихие нотации было для Смецкого чем-то вроде лакомства: вот мёдом его не корми, а дай вволю побрюзжать над чьей-нибудь неопытной душой, при этом он старался выбрать самую безответную девичью душу. Как правило, это была Светочка, преподаватель химии, терпеливая и старательная девочка, – он изводил её своим занудством… Застукав его за сеансом ласкового садизма, я сразу старалась пресечь эту постыдную старческую распущенность. Как ни странно, в этом случае он мне никогда не прекословил и сразу, недовольно кряхтя, по-медвежьи загребая ногами, уносил своё громоздкое тело из учительской… Вскоре, чувствуя мою поддержку, Света и сама научилась давать отпор директорским придиркам.
Моя антиадминистраторская тактика огорчала Василия Матвеевича, он приглашал меня в свой кабинет для беседы. Кабинет у него был шикарный, огромный, с добротной мебелью тёмной полировки. С директорского места, отделённый широким столом, он обвинял меня в подрыве его авторитета, говорил, что мы должны действовать согласованно, так сказать, быть в одной упряжке, и ставил в пример прежнего завуча. Чувствуя, что это именно тот случай, когда «в телегу впрячь не можно коня и трепетную лань», он всё же предпринимал последнюю попытку заставить меня войти в его положение.
-– Вот вы мне перечите во всём, Надежда, а сами не знаете, сколько мне жить осталось. Может, я скоро умру. У меня печень… Хотите, покажу свой язык?
Неуверенно пожав плечами, я всё же надеялась, что как-нибудь обойдётся без показа – нет, высунул. Как я и предполагала, язык был толстый.
-– Что, каков?
-– Белый, Василий Матвеевич.
-– Белый? А утром, когда я просыпаюсь, он покрыт коричневой слизью… Печень…
О, мой бог! «Коричневой слизью»… Кошмар! Зачем он это сказал?! Теперь буду представлять себе утренний язык Смецкого…
Я пообещала по возможности не выбиваться из общей упряжки и дуть с ним в одну дуду. Да, собственно, по-другому было и невозможно: нас связывала одна общая тайна, зловещее имя которой было «мёртвые души». Мы, как и незабвенный Павел Иванович Чичиков, имели дело с «мёртвыми душами» (тот, кто работал Школе рабочей молодёжи, меня поймёт). В ШРМ многое зависит от количества учеников – ставки, часы, зарплата – чем больше учеников, тем больше ставок, выше зарплата.
У нас не было права заставлять учеников ходить в школу, и многие из них переставали посещать занятия, но по «ревизской сказке» какое-то время, иногда довольно длительное, числились как «живые». Дамоклов меч внезапной проверки всегда висел над нашей головой – вот почему нам с директором нужно было дуть в одну дуду и тащить воз в одну сторону, чтобы не вызвать подозрения у проверяющих…