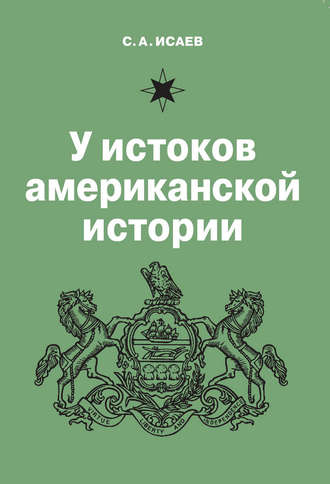
Полная версия
У истоков американской истории. V. Квакерство, Уильям Пенн и основание колонии Пенсильвания. 1681-1701
Любопытной личностью был Томас Веннер (Venner, Thomas, 1608?–1661), по профессии медных дел мастер, живший с семьёй в 1637–1651 гг. в Америке (в Сейлеме), а по возвращении увлёкшийся милленаристскими идеями и ставший их пламенным проповедником. В 1656–1657 гг. он планировал восстание против Кромвеля, и только Гаррисон отговорил его от этой затеи. После Реставрации и казни Гаррисона, 1–4 января 1661 г., Веннер во главе 50 отчаянных сектантов поднял восстание в Лондоне, напав на здания парламента и королевского дворца. После подавления восстания, 19 января 1661 г., он был мучительно казнён.
f) СикерыСикеры (Seekers, букв. «искатели») были тем религиозным течением, содержание чьих взглядов характеризовалось наименьшей определённостью. Так называли трёх братьев Лигейт, или Лигетт (Legate / Legatt) – Уолтера, Томаса и Бартоломью – которые с 1590-х по 1612 г. проповедовали в Лондоне и окрестностях, обвиняя все церкви в том, что они погрязли в идущей от католиков «порче» (коррупции). Братья считали, что надо готовиться к близкому Второму пришествию Христа, и считали себя апостолами – основателями новой церкви, которую Христос уж точно признает Своей. По-видимому, они отвергали догмат Троицы: их немногочисленных последователей называли «лигейтовскими арианами» (Legatine Arians). Судьба Уолтера неизвестна, но Томас умер в тюрьме, а Бартоломью и его помощник Эдвард Райтмэн (Wrightman) в 1612 г. были сожжены на костре как еретики; кстати говоря, это был последний в истории Англии случай сожжения за ересь. Позже имя «сикеров» перешло к тем, кто называл себя «ищущими Бога», не находя Его в существующих церквях. Некоторые из таковых участвовали в молчаливых собраниях: молились и ждали, что через кого-нибудь из собравшихся Господь пошлёт откровение. За такое молитвенное «ожидание» их прозвали уэйтерами (Waiters). Апологию «сикеров» и «уэйтеров» написал Джон Солтмарш (Saltmarsh, ум. 1647) – «Дым во Храме» (The Smoke in the Temple, 1646). Сикером считал себя и англиканский священник Уильям Эрбери (Erbery или Erbury, 1604–1654), который во время Гражданской войны служил капелланом в армии парламента, однако в 1647–1648 гг. доказывал необходимость примирения парламента с королём; в последние годы жизни он сблизился с квакерами34. В самом широком смысле «сикерами», то есть «богоискателями», могли назвать даже Джона Мильтона и самого Кромвеля.
Квакерство распространяется по Англии (1650–1656)
30 октября 1650 г. в Дерби, после публичной проповеди, Фокс вместе с ещё одним проповедником – Джоном Фретуэллом – был арестован и заключён сначала в исправительный дом, затем в тюрьму. Они были обвинены на основании положения Акта о богохульстве от 9 августа 1650 г., которое предусматривало наказание для всякого проповедника, равнявшего себя с Богом.
По свидетельству Фокса, именно тогда квакеры впервые были названы квакерами. Один из судей, распорядившихся об аресте Фокса и Фретуэлла – Джервез Беннет (Bennett, Gervase) – «был первый, кто назвал нас квакерами, потому что я увещевал их [судей] трепетать пред Словом Божиим» (was the first who call edus Quakers, because I bade them tremble at the word of the Lord)35.
Из исправительного дома Фокс был переведён в тюрьму, где находился до декабря 1651 г. В конце того же или в январе следующего, 1652 г. он посетил город Личфилд. Рассматривая три шпиля кафедрального собора этого города, Фокс вдруг почувствовал, как эти шпили впиваются в его тело, и увидел, как улицы города заливает кровь. Он бежал из города с криком: «Увы кровавому городу Личфилду!» и остановился лишь в миле от городской черты. Впоследствии Фокс связывал это видение с тем фактом, что при императоре Диоклетиане в Личфилде были замучены 1000 христиан, и подчёркивал, что в тот момент ему об этом известно не было36.
В июне 1652 г., странствуя в течение нескольких дней по окрестностям местечка Пендл-хилл в Ланкашире и поднимаясь на одноимённый холм, Фокс испытал ещё одно важное религиозное переживание (оно в квакерской литературе так и называется Pendle Hill Experience). Смысл нового откровения сводился к тому, что Фокс должен собрать вокруг полученной им вести «великий народ». Обычно это событие истолковывается как отправная точка в процессе формирования организационных структур квакерства.
В 1652 г. проповеди последователей Фокса собирали огромные толпы, особенно в графствах Англии, расположенных между Лондоном и шотландской границей37.
В 1654 г. квакеры были впервые зафиксированы в Лондоне. В том же году они активно и успешно миссионерствовали на юге Англии38.
В пятницу 24 октября 1656 г. квакерский проповедник Джеймс Нейлор, подражая въезду Иисуса Христа в Иерусалим, торжественно въехал в Бристоль на осле. За эту акцию его арестовали, и его делом занялся парламент. 5 декабря 1656 г. парламентская комиссия обвинила Нейлора в богохульстве. Английские законы предусматривали за такое максимум полгода тюрьмы. Но парламент потребовал наказать его по нормам Ветхого Завета. Смертный приговор парламент 16 декабря всё-таки отверг, но 17 декабря Нейлор был приговорён к изощрённому и изуверскому наказанию, к тому же в несколько приёмов: бичеванию плетьми, клеймению с продырявливанием языка. Кромвель был возмущён этим приговором и требовал от парламента объяснений, но отменить его не решился39.
Специфически квакерской теологии с рождением квакерства не появилось. Для Джорджа Фокса и его ранних последователей христианство было никаким не учением о вере, а всецело и исключительно религиозным опытом. Они были уверены, что это был опыт новой и лучшей жизни, прежде всего на земле, но затем и на небе. При этом они верили во всё то, во что обычно верят христиане: в загробную жизнь, в рай и в ад, в посмертное воздаяние за грехи и заслуги, как в общем и во всё, что написано в Никео-Константинопольском Символе Веры 381 г.
Однако именно «в общем». Некоторые места авторитетного для всех христиан Символа они толковали крайне своеобразно.
Например, слова о вере во «единое крещение». Квакеры утверждали, будто имеется в виду не таинство, которое раз в жизни совершается над человеком, а одно уже свершившееся в истории событие: а именно, крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей. Это, дескать, и было то единое крещение, после которого никому креститься «дополнительно» – то есть участвовать в обычном для христиан таинстве – уже не надо.
Историческую ценность Никейского Символа квакеры признавали. Однако, по их мнению, всякие кредо бесконечно ниже богатой реальности Самой Истины; писаные кредо даже оглупляют тех христиан, которые имеют несчастье воспринимать их слишком всерьёз. Ибо документы эти «блокируют» у людей все другие способы и процессы познания Бога. Квакеры считали, что у истинного христианина не должно быть никакого символа веры. Где Дух Божий – там свобода; символ же связывает совесть; следовательно, символ может быть надиктован только духом никак не Божьим.
Итак, квакеры в принципе отрицают всякую теологию (богословие). Нельзя не признать: в этом они последовательны. Ведь смысл существования богословия именно в том, чтобы привести содержание Божьего откровения в систему, связать его с тем знанием, которое люди получают естественным путём, и получить ответ на новые вопросы, перед которыми верующего ставит жизнь. Но если откровение продолжается непрерывно, то и богословие должно меняться синхронно, после каждого нового откровения. А это технически невозможно.
Квакеры имеют полное право отрицать, что у них есть богословие, и могут быть в этом отрицании вполне искренними. Но автор этих строк, как, скорее всего, и читатель, – не квакер. И, наблюдая квакерство со стороны, мы можем утверждать, что своё богословие у квакеров всё же есть. Отчасти это богословие общее для квакеров и для прочих христиан, отчасти же – особенное, то есть специфически квакерское.
a) «Внутренний Свет»И у Фокса, и у квакеров последующих поколений многие их специфические представления базируются на весьма вольной интерпретации Евангелия от Иоанна 1: 9.
Вот эти слова в Синодальном переводе: «Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир». В Библии короля Якова (KJB): «That was the true Light, which lighteth every man that cometh into the world».
Посмотрим на контекст. Это то самое место, где последний великий евангелист излагает учение об Иисусе Христе как о Логосе (Божьем Слове) – Втором Лице Св. Троицы, вечном, бесконечно сложном и бесконечно могущественном Начале мира. Согласно этому учению апостола Иоанна, именно через Логос тот Бог, Которого иудеи знали как Яхве (Иегову), а христиане чаще называют Богом-Отцом, сотворил весь существующий мир, и человека в том числе. В правление римского императора Октавиана Августа Логос единственный раз в мировой истории воплотился, то есть стал Человеком: это был Иисус Христос.
Тема или образ света проникает в изложение евангелиста, когда Иоанн говорит о Логосе: «В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1: 4–5). Далее евангелист Иоанн даёт краткую справку о своём тёзке Иоанне Предтече. Иоанн Предтеча предсказал приход к людям Логоса воплощённого, то есть Иисуса Христа. Иоанн Предтеча «пришёл, …чтобы свидетельствовать о Свете… Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете» (Ин. 1: 7–8). Далее пассаж, на который мы уже обратили внимание: «Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир». После чего апостол Иоанн пишет о Свете (Он же – воплощённый Логос, Он же – Иисус Христос) то, что уже известно читателю синоптических Евангелий: «В мире был, …и мир Его не познал. Пришёл к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, …дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Ин. 1: 10–13).
Таким образом, «Свет» у евангелиста Иоанна – одно из иных наименований Логоса, или Христа. Разумеется, наименование не случайное, а указывающее на одно из главных действий Христа: просвещать людей, открывать им истину. И всё-таки странно думать, будто Иоанн имеет здесь в виду только лишь то ощущение в уме или в душе верующего, которое Христос Своими проповедями и действиями вызывал у наиболее верных и понятливых Своих учеников: ощущение, идентичное или близкое тому, что испытывает любой человек, посмотрев на солнце или включенный прожектор. Фокс же настаивал именно на таком понимании Евангелия от Иоанна 1: 9. Толкование Фокса выглядит примерно таким же натянутым, как если бы математик заявил: алгебра и начала математического анализа – это не содержание курса, которое изложено в толстом учебнике, а лишь живые впечатления одного из хороших учеников, который сидит в классе и добросовестно усваивает производные с первообразными.
Во всех трёх синоптических Евангелиях есть знаменитый эпизод, где речь идёт действительно о необычных световых ощущениях, которые только у некоторых апостолов вызывало присутствие Христа. «Взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвёл их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф. 17: 1–2). Марк уточняет: «Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить» (Мк. 9: 3). Лука никаких подробностей не добавляет (Лк. 9: 28–29). В Евангелии от Иоанна этого эпизода нет. На какой именно горе это было, Библия не говорит, но традиционно считается, что на горе Фавор, и необычный свет, который видели апостолы, называется поэтому Светом Фаворским. В православной традиции этот Фаворский Свет считается не тварным (то есть не тем, который сотворён Богом в Первый день творения и наполняет мир, в котором мы живём), а прямо исходящим от Самого Бога. Фаворский Свет – важная тема в богословии поздней Византии: Св. Григория Паламы и других исихастов, а также их русских последователей, начиная с Нила Сорского.
Но Джордж Фокс и его ученики Фаворским Светом не интересовались и опирались в своих построениях лишь на Евангелие от Иоанна 1: 9.
b) Иисус Христос в вероучении квакеровПроявляя последовательность, достойную лучшего применения, квакеры называли Христа Словом (Word, – переводя греческое слово Λόγος на английский); но при этом никакие отрывки текста Писания (словосочетания, предложения…) они «словом Божьим» не называли. Почти все прочие христиане делают это совершенно спокойно. Одни лишь квакеры усматривают в таком словоупотреблении отступление от единобожия.
Смысл служения Христа, согласно раннему квакерскому учению, таков. Во-первых, Христос предал Своё Тело на смерть. Таким образом Он сделал для людей возможным принятие спасения. Но, кроме того, Христос таким способом передал людям и некоторую часть той силы, которая была в Нём и которая способна противостоять семени зла, преодолеть его и даже искоренить в человеке. Вторая часть – «Искупление в нас» (redemption within us). Оно проявляется во всех тех ситуациях, когда способность человека добиться оправдания себя перед Богом становится активной и когда «мы свидетельствуем (we witness) и обретаем реальное, подлинное и внутреннее (inward)40 искупление от власти и господства греха и доподлинно искуплены и оправданы».
Именно в этом состоит своеобразие квакерского представления о Боге. В соответствии с ним, Бог всегда людям только помогает и никогда ни на кого из людей не гневается ни по какому случаю.
Квакеры уверены: идея такого бога, который гневается, непременно предполагает, что, дабы устранить грех, гневливый бог обязательно сокрушает грешника: сживает его с этого света и отправляет в ад.
По-видимому, квакеры регулярно наблюдали такой ход мысли в кальвинистском богословии, признавали его последовательным, и, чтобы избавиться от кощунственного вывода, отвергли ключевое понятие, заложенное в исходной посылке.
Квакеры полагают, что люди именно в этом неправильно понимали Бога; и, что ещё хуже, такому неправильно понимаемому богу подражали, стремясь решить проблемы межчеловеческих конфликтов «орудиями гнева» – через то или иное применение силы: через телесные наказания и войны. На самом же деле Бог, по мнению квакеров, чтобы исправить человека, пользуется только средствами любви. Человек должен подражать Богу именно в этом. И квакеры суть первые, кто идёт этим очень непростым путём41.
Оправдание человека перед Богом, согласно квакерским представлениям, это не акт и не процесс, совершаемые Христом во внешнем по отношению к христианину мире. Тем самым квакеры отвергают учение об оправдании, характерное для лютеран и кальвинистов. Оправдание человека перед Богом, согласно квакерским представлениям, это внутренняя моральная трансформация человека, – трансформация, которая наделяет верующего способностью преодолеть всякое зло силою любви и обратить активность этого человека на пользу соседу и обществу. В этом состоит также и христианское совершенство (perfection), как его понимают квакеры.
Квакеры верили в «продолжающееся откровение» (continuing revelation), в то, что каждому человеку доступен «внутренний Свет» (the universal Light Within), а через этот Свет в каждого человека проникает Христос.
Как этот проникший в других людей Христос соотносится с тем Христом, Которого знает история, – тем, Который воплотился для служения в Галилее и Иудее и был распят на Голгофе? Это был едва ли не самый трудный вопрос квакерской христологии. Он порождал длительные споры в квакерской среде.
Удивляться этим спорам не приходится. Ведь и традиционные христиане веками спорили о том, как божественность Христа совмещалась с Его человеческой природой, и кальвинисты с лютеранами – о том, может ли Христос одновременно телесно присутствовать всюду, где совершается св. Причастие. Наблюдалось разномыслие и у квакеров. Одни квакеры верили, что Христос – един, но вполне способен одновременно присутствовать и на небесах, и в телах и душах Своих приверженцев. Другие же квакеры считали, что Христос может быть только в телах и душах, а об эпизодах библейской истории принципиально отказывались говорить. Но те и другие одинаково считали возможным говорить о Христе, Который живёт в Своих верных, и называли Его «Внутренний Христос» (Inward Christ).
c) Квакерское отношение к БиблииБиблия содержит немало информации, «неудобной» для квакеров – по крайней мере, для некоторых квакеров. При этом вера в существование у каждого человека возможности связаться с Богом непосредственно несколько размывала в глазах квакеров уникальность, а значит и обесценивала значимость того древнего откровения, которое «кристаллизовано» и зафиксировано в Библии.
Квакеры верили, что Библия – боговдохновенный текст, но отказывались оказывать Писанию «чрезмерную» честь. Они соглашались, что Библия – Слово Божье, [обращённое] к людям (God’s Words for humans). Однако заявление более общее и безоговорочное – «Библия есть Слово Божье», заявление, заметим, совершенно тривиальное для традиционных христиан – они считали уже проявлением идолопоклонства!42
d) «Внутренний Свет» как характерная практика квакерстваНе усвоение христианского мировоззрения через регулярное чтение Библии и изучение богословия, а только «Внутренний Свет» (Inner Light) был для квакеров непременным, строго обязательным компонентом религиозного опыта. Правда, определить или хотя бы описать его они отказывались. Они считали, что Внутренний Свет настолько превыше всякого обыденного человеческого опыта, что в распоряжении у человека нет способов даже адекватно описать его, а тем более определить.
Ранние квакеры делали следующие выводы из опыта наблюдения Внутреннего Света:
1. Бог имманентен человеку – в каком-то смысле присутствует в человеке – и может быть познан только через внутренний опыт.
2. Все люди – как язычники, так и христиане – потенциально суть Божьи дети, и природа всех их в равной степени наделила способностью отвечать на Божий зов43.
3. Божественная Истина никогда не может быть зафиксированной в словах данностью, но возникает в человеческой душе из опыта Внутреннего Света.
Эти выводы диаметрально противоположны кальвинистскому взгляду на эти проблемы:
1. Великий, страшный, праведный Бог существует вне мира, бесконечно выше жалкого и грешного человека;
2. Христос – Спаситель не для всех людей и даже не для всех христиан, а только для избранных;
3. Вся высшая истина содержится в Библии.
Квакеры верили, что Внутренний Свет может обеспечить спасение даже человеку, который не знает ни о Христе, ни о христианстве вообще ничего. Они считали, что Святой Дух может говорить не только через взрослых мужчин, но и через женщин и детей, и в таком случае женщины и дети тоже могут и должны совершать религиозное служение.
Благодаря наличию у квакера такого регулярного и постоянного канала связи с Богом квакер уверен, что он способен жить в полном соответствии с волей Божьей44.
Разумеется, для постороннего и скептичного наблюдателя это выглядит как квакерская иллюзия, будто такой регулярный канал связи с Богом у него есть.
Этому представлению о всеобщей доступности Божественной истины у квакеров всегда сопутствовало убеждение в абсолютном равенстве всех людей. Какое значение могут иметь социальные ранги, когда все могут получить один и тот же Внутренний Свет!
e) Квакерская этикаИз этого убеждения вытекали самые знаменитые особенности квакерского этоса.
Молитвенные собрания, которые занимают в квакерской религиозной жизни то место, какое литургия в жизни традиционных христиан, проходят обычно в полном молчании. Квакеры собирались по воскресеньям, обычно в тёмной комнате за пустым столом, где, склонив головы, сосредоточенно молча молились. В случае если кому-то казалось, что он (или она) увидел «Внутренний Свет» и получил через него какое-то откровение, он говорил об этом вслух. Но если никто не получает призыва говорить, то все просто расходятся в молчании – и уверяют, что это «совместное богослужение» «освежило» их силы.
Квакеры отвергали все почтительные по отношению к другому человеку жесты – такие как снятие шляпы45, обращение на Вы («You» вместо «thou»).
Тот же принцип «Внутреннего Света» побуждал их говорить пренебрежительно о клире, таинствах, церковных зданиях («steeple houses» – «дома со шпилями»: так говорили они, не желая называть множественные здания церквями, ибо настоящая церковь должна быть одна).
Квакеры категорически отвергали как англиканскую литургию – сложную, глубоко традиционную, тщательно разработанную, – так и пресвитерианскую, гораздо более простую. Всякую литургию они считали лишь средством отвлечения ума от Единого Святого (Holy One). Поэтому они не только сами не создали никакой литургии, заслуживающей такого названия, но и не испытывали ни малейшего почтения к литургиям у других христиан. Если квакеры по каким-то своим делам оказывались в чужой церкви во время проповеди, то могли, не испытывая ни малейшего стеснения, весьма дерзко прервать проповедника.
Одевались квакеры обычно просто, но ничего подобного монашеской униформе так и не выработали. Правило Уильяма Пенна по этой части было: «Выбирай себе одежду своими глазами, а не чужими», т. е. не заботься о мнении других. Для большинства это означало, что не надо одеваться роскошно. Однако сам Пенн одевался весьма элегантно, носил косички и букли, и его авторитета это не роняло.
f) Квакеры в их отношениях к обществу и государствуКак вели себя квакеры в обществе, какие особенности поведения были характерны для них и определялись их принадлежностью к квакерству?46
При ответе на этот вопрос прежде всего хочется заменить слово «общество» на «социум», потому что своё религиозное объединение квакеры назвали не церковью, а себя не квакерами, а Обществом друзей (Society of Friends) и «Друзьями».
Основные особенности поведения квакеров были так или иначе связаны с Нагорной проповедью, которую квакеры воспринимали предельно прямолинейно: как «закон Христа», то есть норму жизни на земле для всех христиан.
В 1656 г. Фокс был привлечён в Англии к суду за «бунтарское» сочинение о присяге. Его иеремиады адресованы были, заметим, не тем людям, которые не видели ничего дурного в принесении присяги, когда ситуация от них таковой требовала: таких людей Фокс считал лишь неумными или слабыми духом. Обращался он не к ним, а к судьям и другим начальникам, которые приводили других людей к присяге: «Особо остерегайтесь понуждать людей приносить присягу, ибо сказано Господом нашим и Вседержителем Иисусом Христом: “не клянись вовсе… Но да будет слово ваше: “да, да; нет, нет; а что сверх того, то от лукавого”” (Мф. 5: 34, 37)». «Свет, сияющий в душе каждого», и только он, способен как открыть человеку истину, так и свидетельствовать от её имени. Клятвы, присяги суть суетные словеса, за которые человек ответит в Судный день. Да, Библия предписывает клятву, но только в Ветхом Завете, и адресовано это предписание (в книге пророка Иеремии) только иудеям, Христос же и апостол Иаков прямо запрещают всякие клятвы и присяги, а это гораздо более значимо… С такой позиции по отношению к присяге квакеры не сходили десятилетиями.
Квакеры отказывались от присяги, поскольку присяга вводит двойной стандарт правдивости. Отказывались участвовать в войнах и служить в армии (и даже косвенно содействовать войне: изготавливать оружие, платить налог на военные нужды и т. п.), поскольку всякий, кто участвует и служит, тем самым признаёт, что насилие бывает легитимным, а квакеры заявляли, что они против всякого насилия. Они были категорически против вмешательства светских властей в дела Царства не от мира сего. Квакерские собрания обязывали членов общины в случае конфликтов не обращаться в обычные суды, а излагать их собранию с тем, чтобы решало оно.
Правда, в вопросе о суде квакеры проявляли непоследовательность. Христос, как известно, говорил: «Не судите, да не судимы будете». Однако квакеры почему-то не видели в этих словах запрета на юридическую деятельность. Многие квакеры получали юридическое образование, а в Америке служили судьями.
Квакеры категорически не желали использовать языческие имена в названиях месяцев (июль, август) и дней недели (слово среда – Wednesday – содержит имя языческого бога Водана) и обозначали те и другие просто номерами, считая первым месяцем март, а первым днём недели воскресенье. Квакеры были против использования комплиментов и ношения украшений, даже женщинами. Против долгих оплакиваний (квакерские похороны предельно просты). Против строгостей в соблюдении праздников. Против публичных развлечений и азартных игр: это, на их взгляд, пустая трата времени!

