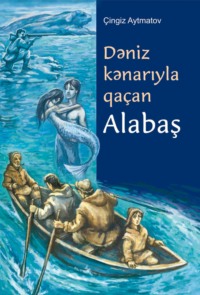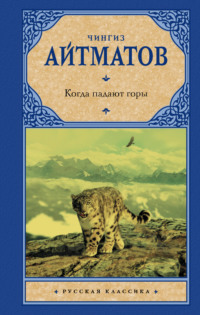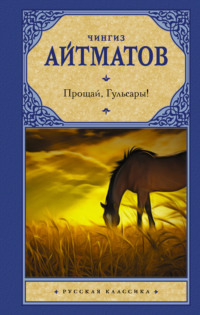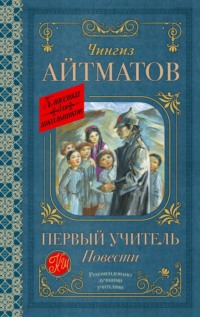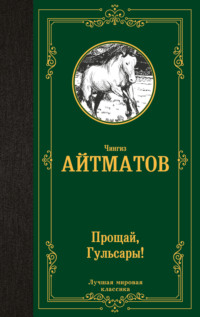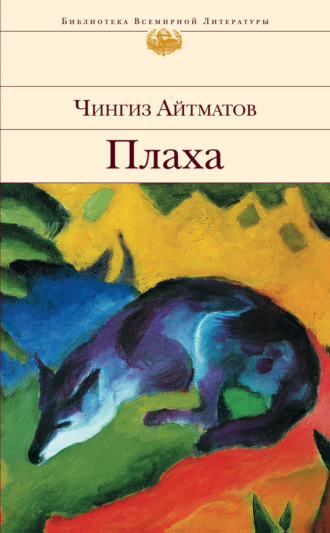
Полная версия
Плаха
Обо всех своих неудачах и переживаниях Авдий Каллистратов и писал Инге Федоровне, которую он считал даром судьбы, самым близким себе человеком, – ведь она, подобно реке, оживляла и воскрешала его для повседневного бытия. Вскоре он понял, что переписка с Ингой Федоровной – главное событие в его жизни и, возможно, то самое предназначение, которое оправдает его существование.
Отправив ей письмо, он затем жил этим, заново восстанавливая в памяти все написанное и как бы комментируя себя. То была странная форма общения на расстоянии – беспрерывное излучение во времени и пространстве его страждущей души.
«…Потом я думал много дней, не шокировали ли Вас начальные слова моего письма: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!» Я их привел, будучи воспитанным в этих традициях, они всегда служат мне камертоном перед серьезным разговором, настраивая на молитвенное состояние духа, и я не стал изменять этому правилу, хотя я и лишний раз напомню Вам о своем происхождении из духовного сословия и семинаристском прошлом. Мое отношение к Вам не позволяет мне умалчивать о каких бы то ни было обстоятельствах, касающихся меня.
И еще думалось о том, что пишу на «Вы», а, расставаясь, мы были уже на «ты». Простите, но что-то произошло со мной, хотя я так недолго вдалеке от Вас. Впрочем, все чудаки пытаются найти себе какое-нибудь нелепое оправдание. Но это к слову. Позвольте все же на расстоянии обращаться к Вам на «Вы». Так я чувствую себя гораздо удобнее. А если нам суждено будет встретиться, о чем отныне мои затаенные и оттого особо сокровенные мечты (эти мечты мне как дети, я их взращиваю и не могу без них, представляю, какое счастье любить своих детей, если любить их, как мечту), а мечты эти родились как устремление духа к Божественному совершенству, вечно притягательному и бесконечному, так вот благодаря этим мечтам я, сам того не подозревая, противостою угрозе небытия, возможно, потому, что любовь – антитеза смерти, она потому и являет собой ключевой момент жизни вслед за таинством рождения, все это я повторяю, как заклинание, чтобы нам суждено было встретиться, и обещаю при встрече не утруждать Вас – обещаю обращаться на «ты». А пока так много есть чего сказать…
Инга Федоровна, Вы помните, надеюсь, что мы условились, как только появятся в газете мои материалы, ради которых я приезжал в Ваши края, незамедлительно слать их Вам авиапочтой. К сожалению, я не уверен, что мои очерки о юнцах-подростках, о гонцах за анашой и обо всем том, что связано с этим печальным явлением наших дней, появятся в ближайшее время. Я говорю наших дней, потому что анаша произрастала на этих землях, как сорная трава, с незапамятных времен, а лет пятнадцать тому назад, Вы сами знаете, да что же я рассказываю Вам, специалисту, но, простите, я все равно буду рассказывать, Инга Федоровна, именно Вам, и только это придает теперь какой-то смысл всему этому предприятию – так вот, лет пятнадцать тому назад, как утверждают местные жители, никто и не помышлял собирать эту злую штуку, или, как именуют ее анашисты, травку, ни для курения, ни для иного потребления. Это зло возникло совсем недавно, и в немалой степени под влиянием Запада. И вот теперь мне предлагают ограничиться какой-то докладной запиской в какие-то инстанции – это просто уму непостижимо. Понимаю, что тут особый разговор, ведь ложное опасение, что остросенсационный материал о наркомании среди молодежи – оговоримся для порядка: среди части малосознательной молодежи – причинит якобы ущерб нашему престижу, может вызвать лишь гнев и смех. Ведь это и есть страусовая политика… Зачем он нужен, этот престиж, если за него надо платить такую цену!
Представляю, Инга Федоровна, как Вы снисходительно улыбались, читая эти строки, улыбались скорей всего моему наивному возмущению, а может быть, и наоборот, хмурились, что, кстати, Вам очень идет. Когда Вы хмуритесь, Ваше лицо становится чистым и глубоким, как у юных монахинь, всерьез озабоченных постижением божественной сути, ведь подлинная красота этих невест христовых в их одухотворенности. Скажи я это вслух, да еще и в присутствии других людей, это выглядело бы попыткой лести. Но я уже сказал, что в моем отношении к Вам нет абсолютно ничего, что я должен был бы преуменьшать или преувеличивать. И если Ваш озабоченный лик вызывает у меня в памяти Богоматерь в живописи Возрождения, отнесите это в крайнем случае к моему недостаточному искусствоведческому опыту. Как бы то ни было, я уповаю на то, что Вы верите в мою искренность… Ведь с этого все началось – Вы поверили мне с первого слова и открыли для меня новую полосу жизни…»
* * *Сегодня снова был в редакции газеты по поводу своего материала, и опять то же самое – все на месте, никакого движения, никакого просвета. Никто не может толком объяснить, почему мои степные очерки, встреченные поначалу редакцией с таким ликованием, теперь ни у кого не вызывают энтузиазма, а ведь сколько откровенных признаний вызвали затронутые проблемы. Главный редактор газеты всячески избегает теперь встречи со мной, дозвониться ему невозможно, секретарша все ссылается на его занятость: то у него заседание, то планерка, то его вызвали в вышестоящие, как она любит подчеркивать, инстанции.
И снова я иду одиноко по знакомым улицам, как будто бы сторонний человек, случайно приехавший сюда, как будто бы я здесь не родился и не вырос, так пусто и отчужденно на душе моей. Иные знакомые со мной не здороваются – я для них церковный отлучник, изгнанный из семинарии еретик и прочее и прочее. И только одно греет мое сердце, одна желанная забота всегда со мной – мое письмо. Иду и думаю о том, что напишу, что в очередном письме я расскажу обо всем, что мне кажется интересным для нее, обо всем, что может дать мне повод поделиться с ней своими думами. Никогда не предполагал, что думать о любимой женщине и писать ей письма станет смыслом моей жизни. Я только и жду хотя бы малейшей возможности поехать туда, где мы встретились. Скорей бы! Иду и думаю об этом. Наверное, и у других людей были такие дни, когда они тоже на какое-то время находили в любви главный смысл жизни и были ею счастливы, но в отличие от них я не перестану любить до самой смерти, и смысл моего житья будет только в этом…
Вот уже и листья падают на бульваре. А ведь то, о чем я писал, происходило в начале лета. Редакция в те дни приветствовала мою идею, торопила. Я же не предполагал, что, когда вопрос коснется дела, редакция уйдет в кусты. Не думал никак, что странный принцип – оповещать в массовой печати только о том, что для нас благоприятно, престижно, – настолько силен.
А в те дни я больше был поглощен предстоящей мне длительной поездкой в незнакомые и притягательные для меня, провинциального россиянина, южные края. Замысел состоял в том, чтобы поехать не как сторонний наблюдатель, а как один из гонцов за анашой, влившись в их тайную компанию. Конечно, возрастом я постарше их, но не настолько старше с виду, чтобы это настораживало. В редакции прикинули, что в старых джинсах и в разбитых кроссовках я вполне могу сойти за простецкого малого, если к тому же сбрею бороду. Так я и сделал – бороду на то время сбрил. Никаких записных книжек я с собой не брал, надеялся на память. Мне важно было проникнуть в ту среду, выяснить, почему именно эти ребята оказались туда вовлеченными, что двигало ими, кроме соблазна наживы и спекуляции; мне необходимо было изучить изнутри личные, социальные, семейные и не в последнюю очередь психологические моменты этого явления.
С тем я и приготовился. Это было в мае. Именно в это время начинает цвести конопля-анаша, и именно в эти дни приступают к сбору ее цвета те, кто специально отправляется за этим зельем в Примоюнкумские и Чуйские степи. Обо всем этом мне поведал мой знакомый, учитель истории одной из школ нашего городка Виктор Никифорович Городецкий. Когда мы оставались наедине, беседуя о разных разностях, он называл меня в шутку отцом Авдием. Сам он сравнительно молодой человек, однокашник моей сестры Варвары. А вот племянник его, сын его родной сестры, Паша, Пахом, которого Виктор Никифорович, оказывается, сам нарек этим именем, так вот Паша этот, как выяснилось впоследствии, попал в анашистскую компанию. Ни родители, ни Виктор Никифорович не знали об этом.
Как-то Паша отпросился у родителей съездить в Рязань к деду, у которого он часто бывал. Дней через пять после его отъезда Виктор Никифорович получил телеграмму от следователя транспортной прокуратуры Джаслибекова с какой-то далекой казахстанской станции. В телеграмме сообщалось, что его племянник Паша находится под стражей, его задержали в связи с преступным провозом наркотиков по железной дороге.
Виктор Никифорович сразу понял, почему именно ему, а не родителям адресовал следователь Джаслибеков телеграмму. Паша боялся отца, человека резкого и крутого. Виктор Никифорович немедленно вылетел в Алма-Ату, а оттуда через сутки добрался на поезде до той степной станции. Застал он Пашу в отчаянном состоянии. Ему грозил немедленный суд и приговор по особому указу со сроком не менее трех лет в колонии строгого режима. Суд был неизбежен – состав преступления налицо. Виктор Никифорович пытался, как мог, втолковать племяннику, что другого исхода, к сожалению, нет, что по закону за преступлением следует наказание. Советовал, как держаться, что говорить на суде, обещал все объяснить родителям, обещал приезжать к нему на свидания в колонию. Все это происходило в присутствии Джаслибекова. И тут вдруг Джаслибеков говорит:
– Виктор Никифорович, если вы поручитесь, что ваш племянник впредь не повторит подобное преступление, я отпущу его под свою ответственность. Мне почему-то показалось, что вы сможете наставить этого молодого человека на путь истинный. Если же он еще раз попадется с провозом анаши, его будут судить как рецидивиста. Вот решайте сами.
Ну, конечно, Виктор Никифорович несказанно обрадовался, тут же поручился за Пашу, не знал, как и благодарить следователя, и тогда Джаслибеков сказал:
– А вас, Виктор Никифорович, я просил бы помочь нам там, на местах у вас. Попробуйте поднять в прессе серьезный разговор на эту тему. Ведь вы учитель. Мы боремся с самими преступлениями, когда они уже совершены или в процессе совершения. А вот кто и что гонит таких, можно сказать, мальчишек вдаль, в безлюдные места, в среду деклассированных элементов, а то и отпетых рецидивистов, мы не знаем, а ведь мы этих подростков судим, вынуждены, обязаны судить. Очень хорошо, что вы, в частности, сразу откликнулись, незамедлительно приехали и тем очень помогли мне, а многие родственники – и таких большинство – не приезжают вовсе. И так попадает человек пятнадцати лет от роду в колонию строгого режима. А что там? Что с ними происходит, чему они там научатся? Никчемными, искалеченными людьми – вот какими они выйдут оттуда. Сами понимаете, тюрьма не от хорошей жизни. Виктор Никифорович, душа болит, на все это глядя. Верите ли, только в прошлый сезон по нашему участку дороги мы судили более ста подростков, а скольких мы пропустили, не смогли задержать, а они все едут и едут отовсюду, от Архангельска до Камчатки, прут, как рыба на нерест. Сколько же можно? Всех ведь не пересудишь. У них возникла целая система промысла. Среди них есть проводники – и здешние и нездешние, – которые ведут их в места произрастания анаши, их мы тоже судим. А что они творят с поездами? Останавливают в степи товарняки, в пассажирский-то они не смеют сунуться, там сразу их схватят. Кто-то снабжает их специальным составом, порошок такой, если посыпать ночью на шпалы, на рельсы, то в лучах фар возникает иллюзия, будто дорога занялась огнем. Шпалы горят, рельсы горят. Конечно, машинист останавливает состав – в степи всякое может случиться, выбегает на дорогу, но нет, ничего не горит, все в порядке. А анашисты тем временем залезают в вагоны со своими сумками, с чемоданами. Составы нынешние такие – на целый километр, попробуй уследи, а они забираются и едут до узловой станции. Там покупают билеты. Пассажиров-то вон сколько! Узнай, кто есть кто. Правда, милиция в последние годы завела специальных собак, они анашу по запаху находят. Вот вашего племянника и обнаружили с помощью собаки…
И еще много кое-чего узнал Виктор Никифорович в тех местах. Он-то и посвятил меня в эти дела. Но еще до этого я был внутренне готов к такому разговору. Меня давно терзала мысль – найти нехоженые тропы к умам и сердцам своих сверстников. Я видел свое призвание в поучении добру. Может, несколько самонадеянно было с моей стороны полагать, что в этом мое предназначение, но, во всяком случае, мне этого искренне хотелось, и, пожалуй, не в последней степени это объясняется моим происхождением. В некоторых статьях своих я уже говорил, хотя и в самых общих чертах, о пагубности алкоголизма среди молодежи, примерно то же писал и о наркомании, ссылаясь на печальный опыт Запада. Но все это было, по сути, с чужих слов, из вторых рук. А для яркого и в то же время проникновенного материала, где были бы мои собственные размышления и переживания по поводу всем известных и в то же время суеверно избегаемых многими, как чумы, случаев наркомании среди молодежи, особенно среди подростков, приводящих к печальным последствиям – от саморазрушения личности до садистских убийств, – так вот, для такого материала мне не хватало знания проблемы изнутри и реалий. А тут как раз получилось, что Виктор Никифорович Городецкий, столкнувшийся с этим явлением на собственном опыте, решил поделиться своими думами и душевными огорчениями. Чтобы оторвать Пашу от прежних друзей-товарищей, промышлявших анашой, вся семья, отец, мать, дети, вынуждена была, обменяв квартиру на меньшую, переехать в другой город. Обо всем этом Виктор Никифорович и рассказал мне с печалью и горечью.
Это и подтолкнуло меня решительно взяться за задуманное дело.
* * *Я прибыл в Москву, где должен был отправиться с Казанского вокзала в конопляные степи. Дело в том, что именно здесь, на Казанском, формировалась первоначально группа гонцов, они так себя и называли – гонцы. Эти гонцы, как я потом убедился, съезжались из самых разных городов Севера и Прибалтики, причем наиболее оживленными точками являлись Архангельск и Клайпеда, должно быть, потому, что анашу там могли перепродавать морякам, уходящим в плавание. Чтобы напасть на след гонцов, я должен был найти на Казанском вокзале носильщика с нагрудным знаком восемьдесят семь по кличке Утюг, или Утя, и передать ему привет от одного из бывших приятелей, упомянутого Пашей. Утюг имел знакомство в билетных кассах – он обеспечивал, безусловно за какую-то мзду, проезд. Но узнать, кто именно это устраивал, мне не удалось, видимо, звено кто-то возглавлял, хотя и тайно. Так вот, этот Утя обеспечивал организованный выезд группы гонцов, то есть он должен был добыть всем билеты на один поезд, но желательно в разных вагонах. Сойдясь поближе с гонцами, я узнал, что первая заповедь всех добытчиков анаши состояла в том, чтобы в случае провала ни за что не выдавать друг друга, поэтому на людях им надо было поменьше общаться между собой.
И вот знакомая площадь трех вокзалов, где я столько раз бывал, приезжая и уезжая из Москвы. Чудовищная толчея, особенно в метро и на вокзалах, – не пробьешься, не протиснешься от многолюдья, и кого только и откуда только не закрутит, как щепку, живой водоворот площади трех вокзалов, и все равно любил я наезжать в Москву, любил, вырвавшись уже ближе к центру на относительный простор, бродить по улицам, толкаться в букинистических магазинах, стоять у афиш и реклам и, если удастся, отправиться в очередной раз в Третьяковку или Пушкинский музей.
В этот раз, выйдя на Ярославском вокзале с электрички и следуя в потоке толпы к Казанскому вокзалу, я поймал себя на мысли, как хорошо, оказывается, мне жилось и чувствовалось прежде, когда я, предоставленный самому себе и своим неприхотливым побуждениям, не был обременен ничем и никакие заботы не ограничивали особенно моего времени и моих странствий по московским улицам. Сейчас же мне нужно было как можно быстрей разыскать на огромном, кишащем, как муравейник, Казанском вокзале того самого связника-носильщика по кличке Утюг с нагрудным знаком восемьдесят семь. Боже, сколько же их, этих носильщиков, а вернее тележников, на Казанском вокзале, если этот значился восемьдесят седьмым, – уж, наверно, не меньше ста. И действительно, в этом столпотворении оказалось не так просто его обнаружить. Потратив по меньшей мере полчаса на то, чтобы обойти все возможные стоянки тележников, я наконец нашел его на перроне у поезда, отходящего в Ташкент. Кого-то Утюг погружал, поспешно перенося с тележки в вагон чемоданы и коробки, бойко перебрасывался на ходу шутками с проводниками и повторял расхожее привокзальное присловье: «Деньги есть – Казан поеду, деньги нет – Чешма пойду». Я подождал в стороне – пока он освободится, пока отъезжающие скроются в вагоне, а провожающие рассредоточатся вдоль состава по окнам купе. И тут он вышел из тамбура, запыхавшись, суя чаевые в карман. Эдакий рыжеватый детина, эдакий хитрый кот с бегающими глазами. Я чуть было не допустил оплошность – едва не обратился к нему на «вы» да еще чуть не извинился за беспокойство.
– Привет, Утюг, как дела? – сказал я ему насколько возможно бесцеремонней.
– Дела как в Польше: у кого телега, тот и пан, – бойко ответил он, точно мы с ним сто лет были знакомы.
– Значит, ты и пан, – заключил я, указывая на его тачку.
– А ты думал! Мы, брат, тоже знаем, у кого денег куры не клюют. А тебе чего, чавыча? Подвезти, может, что-нибудь надо? Изволь!
– Подвезти я и сам могу, – пошутил я. – Дело у меня есть.
– Ну говори, какое дело.
– Не здесь, давай отойдем.
– Айда, чавыча, отойдем.
И мы пошли по длинному перрону к зданию вокзала. Ташкентский поезд тронулся, уплывая мимо вереницей окон и вереницей лиц за стеклами, а на соседнем пути встал другой состав, прибывший откуда-то. Поезда стояли в несколько рядов, народ суетился, спешил, громкоговоритель то и дело выкрикивал номера отправляющихся и прибывающих поездов.
Когда мы дошли до вокзального здания, Утюг свернул тележку в уголок, где не было народа, и там, оглядевшись по сторонам, я передал ему привет от Пашкиного друга, которого звали Игорем, но у гонцов он прозывался Моржом. Почему Моржом, кто знает.
– А Морж где сам? – осведомился Утюг.
– Доходит, – ответил я. – Язва желудка замучила.
– Как в воду глядел, – с сожалением, но и не без торжества хлопнул себя Утюг по лбу. – Говорил я ему, чавыча, еще в прошлый раз говорил, не дури, Моржок, не лезь на хухок. Он же экстру применял, ну и перехватил через край. Вот тебе и язва.
Я изобразил на лице сочувствие, хотя, откровенно говоря, не понимал, что это за экстра – водка или еще что. Но, слава богу, догадался не уточнять. Как выяснилось позже, под экстрой подразумевалось экстрагированное из пластилина – коноплянопыльцовой массы, напоминающей детский пластилин, – самое ценное сырье (насчет пластилина я, кстати, знал, Виктор Никифорович рассказывал), особое конечное наркотическое вещество наподобие опиума. Это и была экстра. В химических лабораториях экстра могла быть преобразована в порошок для инъекций, как героин. Это таким, как Морж, и прочим гонцам было недоступно, зато они при большом желании могли употреблять экстру – держать ее под языком, жевать, запивать водкой, глотать вместе с хлебом. Употреблять экстру называлось у них врезать по мозгам. Но самым доступным и простым было все же курить анашу – кто во что горазд – в чистом виде, в смешанном составе с табаком. Это, наверное, не хуже, чем врезать по мозгам, правда, действие дыма более быстротечно, нежели другие способы.
Все это и многое другое из жизни самих гонцов я постепенно узнавал в поездке на «халхин-гол»; под «халхин-голом» опять же подразумевались места произрастания анаши. С этим «халхин-голом» я снова чуть не попал впросак.
– А ты, чавыча, тоже на «халхин-гол»? – спросил Утюг как бы между делом.
Я вначале запнулся, не поняв, что это за «халхин-гол» такой, а потом как-то смекнул:
– Да вроде. В общем-то да, а то чего бы мне…
– Ну тогда вот так. Насчет билетов, чавыча, не беспокойся. Все будет. Ну а насчет остального – это уже когда вернетесь с травкой, сам Дог разберется. Это дело не мое.
Кто такой был Дог, который обеспечивал нас билетами, и в чем он должен был потом разобраться, я и не знал и так и не выяснил до самого конца. Зато в том разговоре с Утюгом я узнал, что отъезд наш в «халхин-гол» может состояться не раньше чем на другой день. Прежде всего потому, что съехались еще не все гонцы. Двое гонцов из Мурманска должны были прибыть ночным поездом. И еще один, не знаю откуда, мог приехать только к утру. Это меня нисколько не волновало, побыть лишний денек в Москве тоже что-нибудь да значило.
Прощаясь со мной до завтра, когда я в условленный час должен был прийти на Казанский вокзал (а что мне было туда приходить, когда так и так пришлось бы ночевать на вокзале), Утюг поинтересовался, есть ли у меня рюкзак и полиэтиленовые пакеты, чтобы складывать травку, то есть анашу. Рюкзак и пакеты у меня имелись в чемоданчике. И он порекомендовал мне поискать в магазинах какую-нибудь герметически закрывающуюся стеклянную или пластмассовую коробочку, чтобы собирать в нее пыльцовую массу – так называемый пластилин.
– Не будешь лопухом, соберешь малость пластилинчику, хотя дело это и непростое, – пояснил он. – Сам я никогда не ездил, но много слышал. Тут есть один, Леха, так он за два сезона «Жигуль» отхватил. Ездит теперь себе по Москве поплевывает… А трудов-то – от силы дней на десять…
С тем мы и расстались. Я закинул свой чемоданишко в камеру хранения и пошел пройтись по Москве.
Стоял конец мая. Пожалуй, нет для Москвы лучшей поры, чем эти дни перед началом лета. Хотя ведь и осень, ранняя осень, когда прозрачность воздуха, золотистость листвы отражаются даже в глазах прохожих, тоже несказанно прекрасна. Но мне больше по душе именно московское предлетье – и днем отрадно на улицах, и белыми ночами, когда царствует до утра пересвет ночной зари и в городе, и в звездном небе над городом.
Я поспешил вырваться с вокзала на свежий воздух, но, вспомнив, что в центр лучше добраться на метро, снова окунулся в многолюдное движение. До вечернего часа «пик» было еще далеко, и я через чередующиеся, гудящие смены тьмы и света свободно доехал до самого центра. На площади Свердлова заглянул в мой любимый сквер. Круглый сквер зеленел и пестрел, как благодатный островок среди охватившего его кольцом непрерывного движения и обступивших строений. И я почти безотчетно двинулся в потоке прохожих вначале к Манежу – думал, там какая-нибудь выставка окажется, но Манеж был закрыт, и тогда я побрел мимо старого МГУ, мимо Пашкова дома на Волхонку и оттуда к Пушкинскому музею. Не знаю, отчего на душе у меня было так покойно и благостно – может быть, это от московских улиц в центре перед часом «пик» исходит такое умиротворение, а может быть, оно исходит от кирпичного силуэта Кремля, подобно незыблемому горному кряжу господствующего в этой части города. «Что видели эти стены и что еще увидят?» – думалось мне, и в уличных размышлениях, наплывающих сами по себе, я забыл, что недавно сбрил бороду, и оттого все время прикасался к голому подбородку; забыл на какое-то время и то, что я пытался постичь в гнездившемся на Казанском вокзале мутном средоточии зла.
Нет, все-таки судьба есть, она определяет и добрые и худые события. И надо же случиться такому везению, о котором, направляясь в Пушкинский музей, я даже не помышлял. Ведь я-то шел, надеясь в лучшем случае на какие-нибудь новинки в экспозиции музея, хоть и это было не обязательно, походил бы себе и так просто по залам, освежил старые впечатления. А тут у самого входа, перед садиком, какая-то парочка, идя навстречу, остановила меня:
– Слушай, паря, тебе не нужен билетик? – предложил некий тип при ярком зеленом галстуке и в новых рыжих туфлях, которые ему явно жали. На лице у него и его спутницы были нетерпение и скука.
– А что, билетов нет, что ли? – поинтересовался я, так как никаких очередей не видно было.
– Да нет, это на концерт. Только бери оба.
– На какой концерт? – спросил я.
– А кто его знает, хор какой-то церковный.
– В музее? – удивился я.
– Берешь или не берешь? Отдаю два билета за трояк, бери.
Я схватил оба билета и поспешил в музей. Я не слышал, чтобы в Пушкинском устраивались концерты. Но оказалось, как выяснил я у администратора, что с некоторых пор при музее действовало нечто вроде лектория классической музыки, главным образом избранной камерной музыки в исполнении знаменитых музыкантов. А в этот раз – вот уж диво! – в зале, именуемом Итальянским двориком, предстоял концерт староболгарского храмового пения. Вот уж чего мне и не снилось! Неужели будет исполняться отец славянской литургии Иоанн Кукузель? К сожалению, администраторша подробностей не знала. Сказала только, что ожидаются важные гости, чуть ли не сам болгарский посол. Пусть это меня не касалось, но я разволновался и обрадовался, ибо от отца своего еще был наслышан о болгарских песнопениях, а тут на тебе – такой подарок перед рискованной для меня поездкой. До начала концерта оставалось еще полчаса, и я не стал бродить по музею, а вышел на улицу подышать и успокоиться.