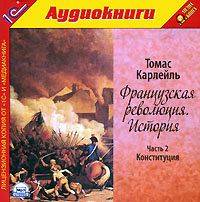Полная версия
Герои, почитание героев и героическое в истории
Мы не станем восхвалять нравственных предписаний Магомета и выставлять их лишь как самые возвышенные. Однако можно сказать, что им всегда присуща хорошая тенденция, что они действительно представляют предписания сердца, стремящегося к справедливому и истинному. Вы не найдете здесь возвышенного христианского всепрощения, предписывающего подставлять правую щеку, когда вас ударят по левой. Вы должны отомстить за себя, но вы должны делать это в меру, без излишней жестокости, не переходя за пределы справедливости.
С другой стороны, ислам, как всякая великая религия, как всякое проникновение в сущность человеческой природы, ставит действительно на одну доску всех людей: душа одного верующего значит более, чем все земное величие царей. Все люди, по исламу, равны. Магомет настаивает не на благопристойности подавать милостыню, а на необходимости поступать так. Он устанавливает особым законом, сколько именно вы должны подавать из своего достатка, и вы действуете на свой страх, если пренебрегаете этой обязанностью. Десятая часть ежегодного дохода всякого человека, как бы ни был велик этот доход, составляет собственность бедных, немощных и вообще тех, кто нуждается в поддержке. Прекрасно все это: так говорит неподдельный голос человечности, жалости и равенства, исходящий из сердца дикого сына природы.
Рай Магомета исполнен чувственности, ад также – это правда. И в том и в другом немало такого, что неприятно действует на нашу религиозную нравственность. Но мы должны напомнить, что все эти представления о рае и аде существовали среди арабов до Магомета, последний только смягчил и ослабил их, насколько то было возможно.
Чувственность в ее самом худшем виде была также делом не его лично, а его учеников, последующих ученых. Действительно, в Коране говорится очень немного относительно радостей, ожидающих человека в раю. Здесь скорее только намек на них, чем определенное указание. Коран не забывает, что величайшие радости и в раю также будут иметь духовный характер. Простое лицезрение Высочайшего – вот радость, которая будет бесконечно превосходить всякие другие.
Магомет говорит: «Вашим приветствием пусть будет мир!» Salam – «мир вам»! Все разумные души жаждут и ищут его как благословения, хотя поиски их оказываются тщетными здесь, на земле. «Вы будете сидеть на седалищах, с обращенными друг к другу лицами. Всякая злоба будет изгнана из ваших сердец». Всякая злоба!.. Вы будете любить друг друга свободно, без принуждения. Для каждого из вас, в глазах ваших братьев, достаточно будет места там, на небе!
Относительно вопроса о чувственном рае и о чувственности Магомета, представляющего самый затруднительный пункт для нас, следовало бы сказать многое, в обсуждение чего мы не можем, однако, войти в настоящее время. Я сделаю лишь два замечания и затем предоставлю все дело вашему собственному беспристрастию. Для первого я воспользуюсь Гете, одним его случайным намеком, который заслуживает серьезнейшего внимания.
В «Странствиях Мейстера» герой наталкивается на сообщество людей с крайне странными правилами жизни, состоявшими, между прочим, в следующем. «Мы требуем, – рассказывает учитель, – чтобы каждый из принадлежащих к нам ограничивал сам себя в каком-либо отношении». Шел бы решительно против своих желаний в известной мере и заставлял бы себя делать то, чего он не желает, – если не хочет. «Чтобы мы разрешили ему большую свободу во всех других отношениях»59. Мне кажется, что это правило в высшей степени справедливо. Наслаждаться тем, что приятно, – в этом нет ничего преступного. Скверно, если мы даем наслаждениям поработить наше моральное «я». Пусть человек покажет вместе с тем, что он господин над своими привычками, может и хочет быть выше их, всякий раз, как это потребуется. Это – превосходное правило. Месяц рамазан, как в религии Магомета, так и в его личной жизни, носит именно такой характер, если не по глубоко продуманной и ясно осознанной цели морального самоусовершенствования, то по известному здоровому, мужественному инстинкту, представляющему также не последнее дело.
Но относительно магометанского неба и ада следует сказать еще вот что. Как бы грубы и материалистичны ни казались эти представления, они служат эмблемой возвышенной истины, которую не многие другие книги так хорошо напоминают людям, как Коран. Этот грубый чувственный рай, страшный пылающий ад, великий чудовищный день судилища, на котором он постоянно так настаивает. Что все это, как не грубое отражение в воображении грубого бедуина духовного факта громадной важности, изначального факта, именно: бесконечной природы долга?
Деяния человека здесь, на земле, имеют бесконечное значение для него, они никогда не умирают и не исчезают. Человек в своей короткой жизни то поднимается вверх до самых небес, то опускается вниз в самый ад и в своих шестидесяти годах жизни держит страшным и удивительным образом сокрытую вечность, – все это как бы огненными буквами выжжено в душе дикого араба. Все это начертано там как бы пламенем и молнией – страшное, невыразимое, вечно предстоящее перед ним. С бурной страстностью, дикой непреклонной искренностью, полуотчеканивая свои мысли, не будучи в состоянии отчеканить их вполне, он пытается высказать, воплотить их в этом небе, этом аде. Воплощенные в любой форме, они говорят нам о главнейшей из всех истин. Они заслуживают уважения под всевозможными оболочками. Что составляет главную цель человека здесь, на земле? Ответ Магомета на этот вопрос может пристыдить многих из нас! Он не берет, подобно Бентаму60, справедливое и несправедливое, не высчитывает барышей и потерь, наибольшего удовольствия, доставляемого тем или другим, и, приведя все это путем сложения и вычитания к окончательному результату, не спрашивает вас: не перевешивает ли значительно в общем итоге справедливое?
Нет, дело вовсе не в том, что лучше делать одно, чем делать другое. Одно по отношению к другому все равно что жизнь по отношению к смерти, небо по отношению к аду. Одно никоим образом не следует делать, другое никоим образом не следует оставлять несделанным. Вы не должны измерять правды и неправды: они несоизмеримы. Одно – вечная жизнь для человека; другое – вечная смерть. Бентамовская польза, добродетель сообразно выгоде и потере61 низводит этот Божий мир к мертвенной, бесчувственной паровой машине, необъятную небесную душу человека – своего рода к весам для взвешивания сена и чертополоха, удовольствий и страданий. Если вы спросите меня, кто из них, Магомет или указанные философы, проповедуют более жалкий и более лживый взгляд на человека и его назначение в этом мире, то я отвечу: во всяком случае, не Магомет!..
В заключение повторяем: религия Магомета представляет собой своеобразную побочную ветвь христианства. Ей присущ элемент подлинного. Несмотря на все ее недостатки, в ней просвечивается наивысшая и глубочайшая истина. Скандинавский бог Уиш, бог всех первобытных людей, разросся у Магомета в целое небо. В небо, символизирующее собою священный долг и доступное лишь для тех, кто заслуживает его верою и добрыми делами, мужественною жизнью и божественным терпением, которое свидетельствует, в сущности, лишь о еще большем мужестве.
Эта религия – то же скандинавское язычество с прибавлением истинно небесного элемента. Не называйте ее ложной, не выискивайте в ней лжи, а останавливайте ваше внимание на том, что есть в ней истинного. В течение истекших двенадцати столетий она была религией и руководила жизнью пятой части всего человечества. Но что важнее всего, она была религией, действительно исповедуемой людьми в глубине сердца. Эти арабы верили в свою религию и стремились жить по ней. После первых веков мы не встречаем на протяжении всей истории, исключая разве английских пуритан в новейшие времена, таких христиан, которые стояли бы так же непоколебимо за свою веру, как мусульмане, так же всецело веровали бы. Вдохновляясь ею, бесстрашно становились бы лицом к лицу со временем и вечностью. И в эту ночь дозорный на улицах Каира на свой окрик: «Кто идет?» – услышит от прохожего слова: «Нет Бога, кроме Бога [Аллаха]».
«Аллах акбар», «Ислам» – слова эти находят отзвук в душах миллионов этих смуглых людей, в каждую минуту их повседневного существования. Ревностные миссионеры проповедуют их среди малайцев, черных папуасов, звериных идолопоклонников. Заменяя, таким образом, худшее, можно сказать, полную пустоту, лучшим, хорошим.
Для арабского народа эта религия была как бы возрождением от тьмы к свету. Благодаря ей Аравия впервые начала жить. Бедный пастушеский народ, никому не ведомый, скитался в своей пустыне с самого сотворения мира. Герой-пророк был ниспослан к нему со словом, в которое он мог уверовать. Смотрите, неведомое приобретает мировую известность. Малое становится всесветно великим. Менее чем через столетие Аравия достигает уже Гранады с одной стороны и Дели – с другой. Сияя доблестью, блеском и светом гения, Аравия светит в течение долгих веков на громадном пространстве земного шара.
Вера – великое дело, она дает жизнь. История всякого народа становится богатой событиями, великой, она приподымает душу, как только народ уверует. Эти арабы, этот Магомет-человек, это одно столетие – не является ли все это как бы искрой, одной искрой, упавшей на черный, не заслуживавший, как казалось, до тех пор никакого внимания песок. Но смотрите, песок оказывается взрывчатым веществом, порохом, и он воспламеняется, и пламя вздымается к небу от Дели до Гранады! Я сказал: великий человек является всегда, точно молния с неба; остальные люди ожидают его, подобно горючему веществу, и затем также воспламеняются.
Беседа третья Герой как поэт. Данте. Шекспир
Герои-боги, герои-пророки – суть продукты древних веков. Эти формы героизма не могут более иметь места в последующие времена. Они существуют при известной примитивности человеческого понимания, но прогресс чистого научного знания делает их невозможными. Необходим мир, так сказать, свободный или почти свободный от всяких научных форм, для того чтобы люди в своем восхищенном удивлении могли представить подобного себе человека в виде бога или в виде человека, устами которого говорит сам Бог. Бог и пророк – это достояние прошлого. Теперь герои являются перед нами в менее притязательной, но вместе с тем и менее спорной, непреходящей форме: в виде поэта. Поэт как героическая фигура принадлежит всем векам; все века владеют им, раз он появится. Новейшее время может породить своего героя, подобно древнейшему, и порождает всякий раз, когда то угодно природе. Пусть только природа пошлет героическую душу, и она может воплотиться в образе поэта ныне, как и во всякое другое время.
«Герой», «пророк», «поэт» и многие другие названия даем мы в разные времена и при разных обстоятельствах великим людям, смотря по отличительным особенностям, подмечаемым нами у них, смотря по сфере, в которой они проявляют себя! Руководствуясь одним этим обстоятельством, мы могли бы дать им еще гораздо больше разных названий. Но я снова повторяю, поскольку это факт, заслуживающий внимания, подобное разнообразие порождается разнообразием сфер, герой может быть поэтом, пророком, королем, пастырем или чем вам угодно, в зависимости от того, в каких условиях он рождается.
Скажу прямо, я не могу вовсе представить себе, чтобы истинно великий человек в одном отношении не мог быть таким же великим и во всяком другом. Поэт, который может только сидеть в кресле и слагать стансы, никогда не создаст ни одной ценной строфы. Поэт не может воспевать героя-воина, если он сам по меньшей мере также не воин-герой. Мне представляется, что поэт в то же время и политик, и мыслитель, и законодатель, и философ. Он в той или иной степени может быть всем этим, он в действительности есть все это! Точно так же я не допускаю, чтобы Мирабо, это пылкое великое сердце, таившее в себе огонь и неукротимые рыдания, – не мог писать стихов, трагедий, поэм и трогать своими произведениями сердца людей, если бы обстоятельства жизни и воспитание привели его к тому.
Главная, основная особенность всякого великого человека в том, что он велик. Наполеон знал слова, которые можно приравнять к Аустерлицким битвам. Маршалы Людовика XIV были до известной степени также и поэтами. Речи Тюренна62 полны мудрости и жизненной силы, подобно изречениям Сэмюэла Джонсона63. Великое сердце, ясный, глубоко проникающий глаз, – все в этом. Без них человек, работая в какой угодно сфере, не может достигнуть ни малейшего успеха. Говорят, что Петрарка и Боккаччо исполняли вполне успешно возлагаемые на них дипломатические поручения. Всякий легко может поверить этому: они ведь совершали дела, и немного потяжелее дипломатических!.. Бернс, богато одаренный певец, мог бы явить нам собою даже лучшего Мирабо. Шекспир – никто не скажет, чего бы он не мог сделать, и сделать притом самым наилучшим образом.
Конечно, существуют также и природные наклонности. Природа не создает всех великих людей, как вообще всех людей, по одному и тому же шаблону. Разнообразие наклонностей – несомненно. Но больше бесконечно еще разнообразие обстоятельств, и гораздо чаще нам приходится иметь дело именно с этим последним разнообразием. Здесь повторяется то же, что и с обыкновенным человеком при обучении его ремеслу. Вы берете человека, у которого способности не обнаружились еще резким и определенным образом и который может обучаться с одинаковым успехом тому или другому ремеслу, и делаете из него кузнеца, столяра, каменщика. С этих пор он становится уже тем или другим, но никем более.
И если вы, как замечает с чувством сожаления Аддисон64, поставите рядом уличного носильщика, пошатывающегося на тонких ногах под тяжестью своей ноши, с портным, по своему телосложению напоминающим Самсона, знающим лишь кусок сукна и маленькую уайтчепельскую65 иглу, то вам не придется долго размышлять о том, действовали ли в данном случае одни только природные наклонности! С великим человеком происходит то же. Вопрос в том, в какого рода науку будет отдан он? Герой дан, должен ли он стать завоевателем, королем, философом, поэтом? Это явится результатом невыразимо сложных и спорных расчетов между миром и героем. Он станет читать мир и его законы. Мир со своими законами будет перед ним, чтобы быть прочитанным. То, чему мир в этом деле даст совершиться, что он признает, составляет, как мы сказали, самый важный по отношению к миру факт.
Поэт и пророк, при нашем современном опошленном понимании их, представляются весьма различными. Но в некоторых древних языках эти два титула составляют синонимы: vates66 означает и пророка, и поэта. И действительно, во все времена пророк и поэт, надлежащим образом понимаемые, имеют много родственного по своему значению. В основе они действительно и до сих пор одно и то же. Оба проникают в священную тайну природы, то, что Гете называет «открыто лежащим на виду у всех секретом», а это и есть самое главное.
В чем же, спросят, состоит этот великий секрет? Это – «лежащий на виду у всех секрет» – открыто лежащий для всех, но почти никем не видимый, – божественная тайна, которою проникнуто все, все существа, «божественная идея мира, лежащая в основе всей видимости», как выражается Фихте67. Идея, для которой всякого рода внешние проявления, начиная от звездного неба и до полевой былинки, и в особенности человек и его работа, составляют только обличье, воплощение, делающее ее видимой. Эта божественная тайна существует во все времена и во всяком месте. Конечно, существует! Но чаще всего ее грубым образом не замечают. Мир, определяемый всегда в тех или иных выражениях, как реализованная мысль Господа, принимается за какую-то банальную, плоскую, инертную материю. Все равно как если бы, говорит сатирик, он был мертвою вещью, которую обладил какой-то меблировщик!
В настоящее время, быть может, неуместно было бы говорить слишком много по этому поводу. Но достоин жалости тот, кто не понимает этого, не живет постоянно мыслью об этом. Достоин, повторяю, самой прискорбной жалости. Если мы живем иначе, так это – прямое свидетельство полного отсутствия в нас всякой жизни вообще!
Пусть другие забывают эту божественную тайну, но vates, говорю я, в виде ли пророка или поэта, проникает в нее. Он является человеком, ниспосылаемым на землю, чтобы сделать истину более понятной для нас. Такова всегда его миссия. Он должен открыть нам ее, эту священную тайну, присутствие которой он ощущает сильнее, чем всякий другой. В то время как другие не думают о ней, он знает ее. Я мог бы сказать: он вынужден знать. Для этого не требуется никакого согласия с его стороны: он находит, что живет ею, принужден жить.
Еще раз нам приходится иметь дело не с какими-нибудь ходячими фразами, а с непосредственным прозрением и верованием. Подобный человек также не может заставить себя быть неискренним! Всякий другой может жить среди призраков, но для него по самой силе вещей необходимо жить в самой действительности. Еще раз мы имеем дело с человеком, серьезно относящимся к миру, тогда как все другие лишь забавляются им. Он – vates прежде всего в силу того, что он – искренний человек. В этом отношении поэт и пророк, которым одинаково доступна «открыто лежащая тайна», представляют собою одно и то же.
Что же касается их различия, то мы можем сказать: vates-пророк схватывает священную тайну, скорее, с ее моральной стороны, как добро и зло, долг и запрет. Vates-поэт – с эстетической стороны, выражаясь языком немцев, как красоту и т. п.
Один раскрывает нам то, что мы должны делать, другой то, что мы должны любить. Но в действительности эти две сферы входят одна в другую и не могут быть разъединены. Пророк также устремляет свой взор на то, что мы должны любить, иначе как бы он мог знать то, что мы должны делать?
Возвышеннейший голос, какой только люди когда-либо слышали на этой земле, сказал: «Посмотрите на полевые лилии… они не трудятся и не прядут, но и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них»68. Это – луч, брошенный в самую глубину глубин красоты. «Полевые лилии» одеты прекраснее, чем земные повелители: они произрастают там, в неведомой полевой борозде – прекрасный глаз, глядящий на вас из глубины необъятного моря красоты! Разве могла бы грубая земля произвести их, если бы сущность ее при всей своей видимой внешней грубости не представляла внутренней красоты? С этой точки зрения, следующие слова Гете, поражающие многих, могут иметь также свое значение. «Прекрасное, – говорит он, – выше, чем доброе. Прекрасное заключает в себе доброе». Истинно прекрасное, которое, как я сказал в одном месте, «отличается от фальшивого, как небо от свода, возведенного руками человеческими». Сказанным я и ограничусь относительно различия и сходства между поэтом и пророком.
В древние времена, равно как и в новые, мы находим немногих поэтов, которых люди признавали бы за вполне совершенные образцы, отыскивать ошибки у которых считалось бы своего рода изменой, – обстоятельство, заслуживающее внимания. Это – хорошо. Однако, строго говоря, это – одна лишь иллюзия. В действительности для каждого достаточно ясно, не существует абсолютно совершенного поэта. Поэтическую жилку можно отыскать в сердце каждого человека, но нет ни одного человека, созданного исключительно из поэзии.
Мы все поэты, когда читаем хорошо какую-либо поэму. Разве «воображение, содрогающееся от Дантова ада», не представляет такой же способности, лишь в более слабой степени, как и воображение самого Данте? Никто не в состоянии из рассказа Саксона Грамматика создать Гамлета, как это сделал Шекспир. Но каждый может составить себе по этому рассказу известное представление. Каждый, худо ли, хорошо ли, воплощает это представление в известном образе. Мы не станем терять времени на разные определения. Там, где нет никакого специфического различия, как между круглым и четырехугольным, всякие определения неизбежно будут носить более или менее произвольный характер. Человек с поэтическим дарованием, настолько развитым, чтобы стать заметным для других, будет считаться окружающими людьми поэтом. Таким же образом устанавливается критиками и известность мировых поэтов, которых мы должны считать совершенными поэтами. Всякий, поднимающийся столько-то выше общего уровня поэтов, будет казаться таким-то и таким-то критикам универсальным поэтом, как он и должен казаться. И однако это произвольное различение, и таким оно неизбежно должно быть. Все поэты, все люди причастны до известной степени началу универсальности, но нет ни одного человека, всецело сотканного из этого начала. Большинство поэтов погибает очень скоро в забвении, но и самый знаменитый из них, Шекспир или Гомер, не будет вечно памятен: настанет день, когда и он также перестанет жить в памяти людей!
Тем не менее, скажете вы, должно же быть различие между истинной поэзией и истинной непоэтической речью. В чем же состоит оно? По этому поводу было высказано много разных мыслей, в особенности позднейшими немецкими критиками, но из этого многого не все, однако, достаточно понятно с первого взгляда. Они говорят, например, что поэт носит в себе бесконечность, он сообщает Unendlichkeit, известный оттенок «бесконечности» всему, что пишет. Хотя эта мысль и недостаточно ясна, однако она заслуживает нашего внимания в вопросе вообще столь темном. Если мы вдумаемся хорошенько, то нам постепенно станет раскрываться некоторый смысл, заключающийся в ней. Я со своей стороны нахожу большой смысл в старинном вульгарном определении, что поэтическое произведение – это метрическое произведение, поэзия заключает в себе музыку, она есть пение.
В самом деле, всякий, пытающийся дать определение поэзии, может остановиться на указываемом нами с таким же правом, как и на всяком другом. Если произведение подлинно музыкально, музыкально не только по сочетанию слов, но и в самом сердце, сущности своей, во всех мыслях и выражениях, вообще по всей своей концепции, – в таком случае оно будет поэтическим произведением. Если нет, то оно не будет таковым. «Музыкально» – как много заключает в себе это слово! Музыкальная мысль – мысль, высказанная умом, проникающим в самую суть вещей, вскрывающим самую затаенную тайну, именно – мелодию, которая лежит сокрытая, улавливающим внутреннюю гармонию единства, составляет душу всего сущего, то, чем всякая вещь живет и благодаря чему она имеет право существовать здесь, в этом мире. Все исходящее из глубины души мы можем считать мелодичным, и все это естественно выливается в пении. Пение имеет глубокий смысл. Кто сумеет выразить логическим образом действие, производимое на нас музыкой? Лишенная членораздельных звуков, из какой-то бездонной глубины исходящая речь, которая увлекает нас на край бесконечности и держит здесь несколько мгновений, чтобы мы заглянули в нее!
Мало того, всякой речи, даже самой шаблонной речи, свойствен до некоторой степени характер пения. Нет в мире такого прихода, жители которого не имели бы своего особенного приходского произношения – ритма или тона, которым они поют то, что хотят сказать! Выговор есть своего рода пение. Выговор всякого человека представляет известную особенность, хотя человек замечает обыкновенно только выговор других людей. Обратите внимание, всякая страстная речь становится сама собой музыкальной, превращается в утонченную музыку в сравнении с простой разговорной речью. Даже речь человека, находящегося в страшном гневе, становится пением, песнью. Все глубокое представляет, в сущности, пение. Оно, пение, составляет, по-видимому, самую сконцентрированную эссенцию нашего существа, а все остальное как бы одну лишь оберточную бумагу и шелуху! Оно – первоначальный элемент нашего существования и всего прочего.
Греки сочинили фантазию о гармонии сфер. Фантазия эта выражает чувство, которое испытывали они, заглядывая во внутреннее строение природы. Она показывает, что душу всех их голосов, способов выражения, составляла музыка. Итак, под поэзией мы будем понимать музыкальную мысль. Поэт тот, кто думает музыкальным образом. В сущности, все зависит от силы интеллекта. Искренность и глубина прогревания делают человека поэтом. Проникайте в вещи достаточно глубоко, и перед вами откроются музыкальные сочетания. Сердце природы окажется во всех отношениях музыкальным, если только вы сумеете добраться до него.
Vates-поэт, со своим мелодическим откровением природы, пользуется, по-видимому, не особенно завидным положением среди нас в сравнении с vates-пророком. Дело, которое он делает, и тот почет, который мы воздаем ему за его дело, представляются также, по-видимому, незначительными. Некогда героя считали богом; позже героя стали считать пророком; затем героя начинают считать всего лишь поэтом. Не следует ли отсюда, что великий человек в нашей оценке как бы постепенно, эпоха за эпохой, убывает? Мы принимаем его сначала за Бога, затем за человека, Богом вдохновленного. Затем в последующую фазу самое дивное его слово вызывает с нашей стороны лишь признание, что он – поэт, прекрасный мастер стиха, гениальный человек и т. п.! В таком виде представляется вообще наше отношение к герою, но мне кажется, что в действительности это не так.