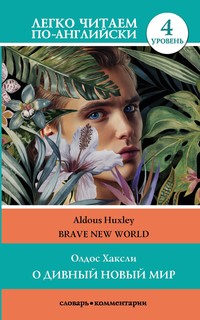Полная версия
Кром желтый. Шутовской хоровод (сборник)
– Блайт, Майлдью и Смат[26], – ответил он лаконично, как человек, ни секунды не сомневающийся в своем выборе.
В ту ночь Дэнис несколько часов не мог заснуть. Смутная, но болезненная печаль терзала его. Он чувствовал себя несчастным не только из-за Анны; его мучили мысли о самом себе, о будущем, о жизни в целом, о вселенной. «Ах, эти страдания юности, – то и дело повторял он, – как же они чудовищно утомительны». Но тот факт, что название собственного недуга было ему известно, ничуть не помогал излечиться от него.
Сбросив на пол одеяло и подушки, он встал и нашел облегчение в сочинительстве. Ему хотелось облечь в слова и запереть в них, как в клетке, свою безымянную печаль. Примерно через час из клякс и зачеркнутых каракулей родилось девять более-менее законченных строк.
Чего хочу, не знаю сам,В июльский теплый этот вечер,Прислушиваясь к голосамТвоим, о разомлевший ветер!Чего хочу я и к чемуСтремлюсь душою – не пойму.По рекам времени кочуя,Не знаю сам, чего хочу я,Не знаю сам.Дэнис прочел вслух то, что получилось; потом швырнул листок в корзину для бумаг и снова лег. Буквально через несколько минут он уже спал.
Глава 11
Мистер Барбекью-Смит отбыл. Автомобиль стремительно унес его на вокзал; о его недавнем присутствии напоминал легкий запах выхлопных газов. Во дворе его провожал внушительный отряд гостей и хозяев, которые теперь, когда машина скрылась за углом, возвращались назад – кто на террасу, кто в сад. Шли молча, никто пока не осмеливался высказаться об уехавшем госте.
– Итак? – произнесла наконец Анна, вопросительно подняв бровь и обернувшись к Дэнису. Должен же был кто-то начать.
Дэнис отклонил приглашение и переадресовал его мистеру Скоугану:
– Итак? – повторил он вслед за Анной.
Мистер Скоуган тоже не решился, а лишь эхом откликнулся:
– Итак?
Генри Уимбушу не оставалось ничего, кроме как высказать свое мнение:
– Весьма приятное дополнение к нынешним выходным, – скорбно сказал он.
Не слишком заботясь о том, куда именно идти, они шли по тисовой аллее, огибавшей террасу и круто сбегавшей вниз, к бассейну. Дом, собственную семидесятифутовую высоту которого дополняла еще и высота пристроенной террасы, возвышался над ними необозримой громадой. Непрерывные вертикали трех башен взмывали к небу, усиливая впечатление ошеломляющей высоты. На краю бассейна компания остановилась, чтобы оглянуться и обозреть дом.
– Человек, построивший это здание, знал свое дело, – сказал Дэнис. – Он был настоящим архитектором.
– Вы полагаете? – задумчиво произнес Генри Уимбуш. – Сомневаюсь. Его построил сэр Фердинандо Лапит, поднявшийся в царствование королевы Елизаветы. Он унаследовал имение от отца, которому его пожаловали во времена гонений на монастыри; изначально Кром являлся обителью монахов, а в этом бассейне они разводили рыб. Сэру Фердинандо было мало просто приспособить старые монастырские помещения под собственные нужды; используя их в качестве каменоломен, он соорудил амбары, коровники и прочие постройки, а себе возвел величественный новый дом из кирпича – тот самый, который вы теперь видите.
Он повел рукой в сторону дома; безмолвный, внушительный, суровый, почти зловещий Кром нависал над ними.
– Знаменательно в Кроме то, – вмешался мистер Скоуган, торопясь перехватить инициативу, – что он безусловно и даже агрессивно являет собой произведение искусства. Никакого компромисса с природой – скорее, противостояние и бунт против нее. Никакого сходства с Шелли за́мком из «Эпипсихидиона́» о котором, если мне не изменяет память, сказано:
Не сотворен искусством человека,Из недр земли вознесся ясным днем.Есть нечто титаническое в нем,Неотделим от гор, воздушен, строен,Он точно из камней живых построен.Нет-нет, о Кроме подобной чепухи не скажешь. То, что крестьянские лачуги должны выглядеть так, будто они вознеслись из земли, к которой привязаны их обитатели, безусловно, правильно и уместно. Но дом образованного, культурного человека с изысканным вкусом ни в коем случае не должен выглядеть так, будто он вырос из глины. Он, скорее, должен быть олицетворением величественной отрешенности от грубой жизни природы. Со времен Уильяма Морриса[27] это является фактом, который в Англии, увы, так и не смогли осознать. Культурные и образованные люди здесь на полном серьезе всегда разыгрывали подобие крестьянской жизни. Отсюда причудливость нашей коттеджной архитектуры, искусств, ремесел и всего прочего. Отсюда в предместьях английских городов – бесконечные ряды одинаковых, нарочито затейливых подражаний жилищам усвоенного деревенского стиля. Бедность, невежество и ограниченность выбора материалов для строительства обусловили вид жилища, которое – в соответствующем антураже – безусловно, обладает своим обаянием живых камней. Мы же теперь, используя наше богатство, наши технические знания, широкое разнообразие строительных материалов, создаем миллионы стилизованных лачуг в совершенно неподходящем антураже. Можно ли придумать что-либо более нелепое?
Генри Уимбуш снова подхватил нить своих прерванных рассуждений.
– Все, что вы говорите, мой дорогой Скоуган, – начал он, – разумеется, совершенно справедливо и верно. Но я очень сомневаюсь, что сэр Фердинандо разделял ваши взгляды на архитектуру, если таковые у него вообще имелись. Сооружая этот дом, сэр Фердинандо в сущности был озабочен лишь одной идеей – правильным расположением отхожих мест. В 1573 году он даже опубликовал небольшую книжечку на эту тему – теперь она стала библиографической редкостью – под названием «Несколько интимных советов от одного из Ее Величества почтеннейших тайных советников, сэра Ф.Л.», в которой проблема рассматривается с глубоким знанием дела и изяществом. Главный принцип организации санитарии дома состоял в том, чтобы обеспечить максимально возможное удаление отхожих мест от сточной системы. Отсюда следовало, что поместить их необходимо в верхней части дома и соединить вертикальными трубами с отстойниками и прорытыми в земле каналами. Не следует думать, что сэра Фердинандо заботили только приземленные соображения сугубо гигиенического толка; у него были и определенные причины духовного свойства для размещения удобств в столь высоком месте. Ибо, как он утверждает в третьей главе своих «Интимных советов», естественные нужды организма настолько низменны и грубы, что, справляя их, мы неизбежно забываем о том, что являемся благороднейшими творениями мироздания. Чтобы противодействовать этому разлагающему эффекту, он рекомендовал устраивать туалеты в домашних помещениях, наиболее приближенных к небу, и снабжать их окнами, открывающими широкую и благородную панораму, а также обустраивать стены в этих помещениях книжными полками, на которых стояли бы самые зрелые плоды человеческой мудрости, такие как «Книга притчей Соломоновых», «Утешение философией» Боэция, собрания высказываний Эпиктета и Марка Аврелия, «Энхиридион» Эразма Роттердамского и прочие произведения, древние и современные, взывающие к благородству человеческой души. В Кроме он имел возможность воплотить свои теории на практике. На вершине каждой из трех башен он поместил туалет. Оттуда на всю высоту дома – а это, заметим, более семидесяти футов – тянулись шахты, которые проходили через подвалы и соединялись с цепью подземных трубопроводов, расположенных на уровне фундамента верхней террасы и промываемых проточной водой. В нескольких сотнях ярдов ниже рыбьего пруда сточные воды выливались в реку. Общая длина каждого трубопровода от вершины башни до подземной части составляла сто два фута. Восемнадцатый век с его пристрастием к модернизации смел этот изобретательный памятник санитарии. Если бы не устное предание и не описание, оставленное самим сэром Фердинандо, мы бы знать не знали о существовании этих благородных удобств. Можно даже предположить, что дом был построен в столь необычном и величественном стиле исключительно из эстетических соображений.
Воспоминания о былом величии всегда вызывали у Генри Уимбуша некоторое воодушевление. Вот и на протяжении этой речи его лицо под серым котелком стало подвижным и светилось. Размышления об исчезнувших отхожих местах глубоко взволновали его. Потом он замолчал, свет постепенно угас на его лице, и оно снова превратилось в реплику учтиво-строгого головного убора, под сенью которого пребывало. Наступила долгая тишина, казалось, что всеми овладели такие же смутно печальные мысли. Постоянство и быстротечность… Сэр Фердинандо с его отхожими местами ушел в прошлое. А Кром по-прежнему стои́т. Как ярко сияет солнце и как неотвратима смерть! Неисповедимы пути Господни, но человеческие еще более неисповедимы…
– Сердце радуется, – заговорил наконец мистер Скоуган, – когда слушаешь рассказы о чудаковатых английских аристократах. Придумать теорию отхожих мест и построить огромный великолепный дом, чтобы воплотить ее на практике, – это же замечательно, восхитительно! Я люблю размышлять о них: об эксцентричных лордах, разъезжающих по всей Европе в тяжеловесных каретах и выполняющих самые причудливые миссии. Один едет в Венецию, чтобы купить гортань Бьянки; он, разумеется, не получит ее, пока она не умрет, но это не имеет никакого значения, он готов ждать, у него – целая коллекция гортаней знаменитых оперных исполнителей, заспиртованная в стеклянных колбах. А еще инструменты прославленных музыкантов-виртуозов, их он тоже собирает и намерен выторговать у Паганини его маленькую Гварнери, хотя шансы на успех невелики. Паганини не продаст свою скрипку, но, возможно, согласится пожертвовать одной из своих гитар. Другие одержимы крестовыми походами и участвуют в них: кто-то – чтобы безвестно сгинуть среди диких греков, кто-то – чтобы в белом цилиндре предводительствовать итальянцами в их борьбе против угнетателей. Есть и такие, у кого вовсе нет занятий, они просто выгуливают свои капризы в континентальной Европе. Дома они с еще большей изобретательностью используют свой досуг. Бекфорд строит башни, Портленд копает ямы, Кавендиш, миллионер, живет в конюшне, не ест ничего, кроме баранины, и развлекается – о, исключительно ради собственного удовольствия – тем, что на полвека предвосхищает открытия в сфере электричества. Великолепные сумасброды! Они добавляют живости каждой эпохе. Когда-нибудь, мой дорогой Дэнис, – мистер Скоуган перевел на него горящий взор, – когда-нибудь вы должны стать их биографом и написать «Жизнь чудаков». Какая тема! Я бы и сам не прочь за нее взяться.
Мистер Скоуган сделал паузу, еще раз окинул взглядом возвышающуюся громаду дома и два или три раза пробормотал: «Эксцентричность».
– Эксцентричность… Это индульгенция для всех аристократий. Она оправдывает унаследованные состояния праздных классов, их привилегии, доходы от капиталов и прочие несправедливости подобного рода. Если вы хотите сделать что-нибудь разумное в этом мире, нужно иметь класс людей, надежно защищенных, независимых от общественного мнения, не опасающихся бедности, имеющих досуг, не вынужденных тратить время на рутину, называющуюся честным трудом. Нужно иметь класс людей, чтобы принадлежащие к нему могли – в разумных пределах – думать и делать то, что им нравится. Нужно иметь класс людей, у которых есть причуды, которые могут позволить себе им потворствовать и которые относятся к причудам как таковым со снисходительностью и пониманием. Это чрезвычайно важно для осознания того, что есть аристократия. Она не только сама эксцентрична – зачастую непомерно, – но и проявляет терпимость, и даже поощряет эксцентричность в других. Чудачества художника или новомодного мыслителя не внушают ей того страха, ненависти и отвращения, какие интуитивно испытывают к ним обыватели. Аристократия – это нечто вроде резервации краснокожих индейцев посреди огромной орды белых бедняков – жителей колонии. Внутри своей резервации дикари развлекаются как хотят – надо признать, зачастую чуточку слишком буйно, – и, когда за ее пределами рождаются родственные им души, она предоставляет им своего рода убежище от ненависти, которую белые бедняки, en bons bourgeois[28], вымещают на все, что кажется им диким или как минимум выходящим за пределы общепринятого. После того как произойдет социальная революция, резерваций не станет, и краснокожие утонут в необозримом море белых бедняков. И что тогда? Потерпят ли они то, что вы, друг мой Дэнис, будете продолжать сочинять свои вилланели?[29] Позволят ли вам, бедный Генри, жить в этом доме шикарных отхожих мест и по-прежнему тихо разрабатывать шахты бесполезного знания? А вам, Анна…
– А вам, – перебила его Анна, – продолжать разглагольствовать?
– Можете не сомневаться, – ответил мистер Скоуган, – не позволят. Придется мне заняться каким-нибудь честным трудом.
Глава 12
Блайт, Майлдью и Смат… Мэри была озадачена и расстроена. Быть может, ее подвел слух? Быть может, на самом деле он сказал: Сквайр, Биньон и Шэнкс или Чайлд, Бланден и Ирп? Или даже Эберкромби, Дринкуотер и Рабиндранат Тагор? Может быть. Но ведь раньше слух никогда не подводил ее. Блайт, Майлдью и Смат. Нет, она слышала это отчетливо, и слова врезались ей в память. Блайт, Майлдью… Она вынуждена была нехотя признать, что Дэнис на самом деле произнес эти несуразные слова. Он демонстративно отверг ее попытку завязать серьезную беседу. Это ужасно. Мужчина, который не желает разговаривать с женщиной серьезно только потому, что она – женщина… О, это немыслимо! Или Эгерия[30] – или ничего. Наверное, Гомбо все же подходит больше. Правда, его средиземноморское происхождение немного смущает, но у него, по крайней мере, серьезное дело в руках, а она намеревалась общаться с ним именно на почве его работы. А Дэнис? В конце концов, кто такой Дэнис? Дилетант, любитель…
Под мастерскую Гомбо отхватил себе маленький пустующий амбар, уединенно стоявший посреди деревьев за скотным двором. Это было квадратное кирпичное строение с остроконечной крышей и маленькими окнами, расположенными высоко под ней вдоль каждой стены. К входной двери была прислонена стремянка с четырьмя перекладинами, так как амбар для защиты от крыс возвышался над землей на четырех массивных опорах из серого камня. Внутри ощущался легкий запах пыли и паутины, и серебристые пылинки всегда плясали в луче света, в любое время дня проникавшем внутрь через то или иное окошко. Здесь Гомбо работал с какой-то, можно сказать, свирепой сосредоточенностью по шесть-семь часов в день. Он создавал нечто совершенно новое, нечто потрясающее, если только удастся это нечто ухватить.
На протяжении последних восьми лет, почти половина которых была потрачена на долгий путь к победе в войне, он трудолюбиво продирался сквозь дебри кубизма. Теперь вышел из них на противоположную сторону. Начинал он с того, что писал формализованную натуру, потом мало-помалу совсем отказался от правдоподобия и воспарил в мир чистой формы, пока наконец не дошел до того, что переносил на полотно исключительно собственные мысли, облеченные в умозрительные абстрактно-геометрические фигуры. Процесс оказался трудным, но возбуждающим. А потом, совершенно неожиданно, он в нем разочаровался и ощутил себя загнанным в невыносимо узкие рамки. Ему стало стыдно от того, сколь скудны, грубы и неинтересны формы, которые он способен придумать, между тем как творениям природы нет числа, и все они непостижимо совершенны и утонченны. Да, он покончил с кубизмом, пройдя насквозь и выйдя на другую сторону, но свойственная кубистам дисциплина уберегла его от другой крайности – не позволила впасть в слепое поклонение природе. Он брал у нее богатство, утонченность и сложность форм, но задачей своей всегда считал сведение их воедино и создание на их основе чего-то нового, наделенного волнующей простотой и условностью идеи. Ему не давали покоя исполненные внутреннего драматизма шедевры Караваджо. Формы дышащей, живой реальности рождались из темноты и выстраивались в композиции с восхитительной простотой и неповторимостью математической формулы. Он вспоминал «Призвание апостола Матфея», «Распятие святого Петра», «Лютнистов», «Кающуюся Магдалину». У этого фантастического скандалиста был секрет, да у него был свой секрет! И Гомбо лихорадочно пытался найти и постичь его. Если ему удастся разгадать этот секрет, он создаст нечто грандиозное.
Некая идея уже давно бродила у него в голове и всходила там, словно на дрожжах. У него накопилась целая папка этюдов, он нарисовал эскиз будущей картины, и теперь идея начинала обретать форму на холсте. Человек, упавший с лошади. Гигантское животное – белая ломовая лошадь – заполняло всю верхнюю половину холста. Ее склоненная до земли голова находилась в тени; внимание зрителя приковывали огромное костлявое тело и ноги, обрамлявшие картину с обеих сторон как колонны некой арки. Между ногами этой махины на земле лежала укороченная перспективой фигура мужчины: голова на переднем плане, руки раскинуты в стороны. Безжалостно ослепительный свет лился откуда-то справа. Животное и распростертый человек были ярко освещены, а вокруг них царила непроглядная тьма. Посреди этой тьмы они являли собой собственную замкнутую вселенную. Итак, верхняя часть картины была заполнена корпусом лошади, ноги с гигантскими копытами, тяжело, неподвижно попиравшими землю, ограничивали ее по бокам. Внизу лежал человек: в самом центре на переднем плане – запрокинутое лицо, руки раскинуты к краям картины. Под аркой лошадиного брюха, в глубине, между ног животного – кромешная тьма, замыкавшаяся снизу фигурой распростертого человека. Бездна тьмы, окруженная освещенными формами…
Картина была готова более чем наполовину. Все утро Гомбо работал над мужской фигурой и теперь устроил себе перерыв, чтобы выкурить папиросу. Сидя на стуле, он откинулся на его задних ножках до самой стены и задумчиво смотрел на свое полотно. Оно ему нравилось, но в то же время он чувствовал себя опустошенным. Сама по себе картина была хороша, он это понимал. Но что-то, чего он искал, что-то, что сделало бы его работу поистине грандиозной, если бы удалось это что-то ухватить… Ухвачено ли оно? И удастся ли ему когда-нибудь его ухватить?
В дверь трижды тихо постучали – тук-тук-тук. Гомбо повернул голову. Никто никогда не беспокоил его во время работы – это было одним из неписаных правил.
– Войдите! – сказал он.
Дверь, которая была чуть приоткрыта, распахнулась, и в нее просунулась Мэри. Она решилась подняться только до середины стремянки. Если он не захочет ее принять, так легче будет ретироваться с достоинством, чем если бы она взобралась на самый верх.
– Можно войти? – спросила она.
– Конечно.
Мэри одним прыжком преодолела две последние ступеньки и через секунду уже перешагивала порог.
– Вам с последней почтой пришло письмо, – проговорила она. – Я подумала, может, это что-то важное, и решила вам его принести.
Ее взгляд и детское лицо светились простодушием, когда она передавала ему письмо, хотя трудно было придумать более неубедительный предлог.
Гомбо мельком взглянул на конверт и, не открывая, сунул в карман.
– К счастью, – произнес он, – ничего важного. Но все равно большое спасибо.
Оба замолчали. Мэри почувствовала себя немного неловко, но, набравшись храбрости, наконец спросила:
– Можно мне взглянуть на то, что вы пишете?
Гомбо успел выкурить папиросу лишь наполовину и в любом случае не собирался возвращаться к работе, пока не докурит ее до самого основания, поэтому решил дать ей эти пять минут.
– Здесь место, откуда лучше всего смотреть, – пояснил он.
Некоторое время Мэри молча делала вид, что рассматривает картину. На самом деле она не знала, что сказать, поскольку была ошарашена и сбита с толку. Она ожидала увидеть шедевр кубизма, а вместо этого перед ней – изображение лошади и человека, не просто, а даже как-то вызывающе реалистическое. Trompe-l’oeil[31] – другого слова не подберешь, чтобы охарактеризовать правильность перспективы и тщательность, с какой выписана человеческая фигура под грузно опирающимися о землю лошадиными ногами. Что она должна об этом подумать? И что сказать? Мэри совершенно растерялась. Можно, конечно, восхищаться репрезентализмом[32] у «старых мастеров». Это очевидно. Но в современном искусстве… В восемнадцать лет это еще, пожалуй, простительно. Но теперь, после школы, полученной ею во время пятилетнего общения с лучшими знатоками искусства, естественной реакцией на современное произведение, выполненное в технике репрезентализма, было презрение, едва сдерживаемый пренебрежительный смех. И что на Гомбо нашло? Прежде она безо всякой натуги восхищалась его работами. Но теперь не знала, что и думать. Она попала в затруднительное, очень затруднительное положение.
– Здесь богатая игра светотени, не так ли? – выдавила она наконец, мысленно поздравив себя с тем, что придумала критическую формулу, весьма деликатную и в то же время проницательную.
– Верно, – согласился Гомбо.
Мэри была довольна: он вступил с ней в серьезный профессиональный диалог. Она наклонила голову набок и прищурилась.
– По-моему, это ужасно мило, – сказала она, – но, конечно, немного слишком… слишком… репрезентативно, на мой вкус.
Она посмотрела на Гомбо, тот молчал, продолжая курить и не отрывая задумчивого взгляда от картины. Мэри продолжила с придыханием:
– Этой весной, будучи в Париже, я видела много работ Чаплицкого. Они меня безмерно восхищают. Конечно, они теперь стали пугающе абстрактны – пугающе абстрактны и пугающе интеллектуальны. Он наносит на холст всего несколько овалов – абсолютно плоских, знаете ли, и притом только чистыми, первичными красками. Но композиция получается удивительной. Он с каждым днем все больше уходит в абстракцию. В работах, которые я там видела, он полностью отказался от третьего измерения и подумывал о том, чтобы отказаться от второго. Скоро, говорит он, останутся лишь нетронутые холсты. Таков логический исход. Предельная абстракция. Живопись в идеально чистом виде; и он ведет ее к этому идеалу. А когда Чаплицкий его достигнет и покончит с живописью, переключится на архитектуру, которую считает более интеллектуальным занятием, нежели живопись. Вы с этим согласны? – спросила она все так же с придыханием.
Гомбо бросил на пол окурок и растоптал его.
– Чаплицкий покончил с живописью, а я – со своей папиросой. Но я, в отличие от него, собираюсь продолжить писать, – произнес он и, подойдя к Мэри, обнял ее за плечи и развернул спиной к полотну.
Мэри подняла на него глаза, колокол золотистых волос беззвучно качнулся. Ее взгляд был безмятежным, она улыбалась. Итак, момент настал. Его рука у нее на плечах, он двигается медленно, почти неощутимо, и она двигается с ним в такт. Это напоминало прогулку с Аристотелем.
– Так вы согласны с ним? – повторила она. Момент, может, и настал, но она ни в какой ситуации не утратит серьезности и не перестанет быть интеллектуалкой.
– Не знаю. Мне нужно об этом подумать. – Хватка Гомбо ослабла, и его рука соскользнула с ее плеча. – Осторожнее на лестнице, – заботливо предупредил он.
Мэри в недоумении оглянулась. Они были уже перед открытой дверью. Она постояла мгновение в растерянности: рука, только что покоившаяся у нее на плече, соскользнула ниже и три-четыре раза легонько шлепнула ее по спине. Машинально повинуясь этому побуждению, Мэри двинулась вперед.
– Спускайтесь по лестнице осторожно, – еще раз предупредил Гомбо.
Она спускалась осторожно. Дверь за ней закрылась, и Мэри очутилась одна в маленьком замкнутом зеленом пространстве. Потом в задумчивости пошла обратно к дому через скотный двор.
Глава 13
Выйдя к обеду, Генри Уимбуш принес с собой довольно пухлую картонную папку с печатными листами.
– Сегодня, – сказал он, демонстрируя папку с некоторой торжественностью, – сегодня я получил полный оттиск моей «Истории Крома». Не далее как этим вечером я помогал набирать последнюю страницу.
– Это ваша знаменитая «История»? – воскликнула Анна.
Сочинение и печатание этого Magnum Opus[33] длилось столько, сколько Анна помнила себя. На протяжении всего детства «История» дядюшки Генри была для нее чем-то неопределенно-сказочным, о чем часто слышали, но чего никогда не видели.
– На нее ушло почти тридцать лет моей жизни, – пояснил мистер Уимбуш. – Двадцать пять лет на написание и почти четыре – на печатание. И вот она завершена – полная хроника событий: от рождения сэра Фердинандо Лапита до смерти моего отца Уильяма Уимбуша – более трех с половиной веков. История Крома, написанная в Кроме и отпечатанная в Кроме на моем собственном печатном станке.
– Будет ли нам позволено прочесть ее теперь, когда она завершена? – спросил Дэнис.
Мистер Уимбуш кивнул.
– Разумеется, – ответил он и скромно добавил: – И я надеюсь, что вы найдете ее небезынтересной. Наша несгораемая комната для хранения архивов чрезвычайно богата старинными документами, и мне удалось совершенно по-новому осветить вопрос о введении в обиход трехзубых вил.
– А люди? – спросил Гомбо. – Сэр Фердинандо и все остальные, было в их жизни что-то увлекательное? Семейные трагедии или преступления?