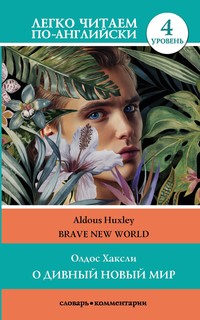Полная версия
Кром желтый. Шутовской хоровод (сборник)
– Что нового случилось в Лондоне с тех пор, как я уехала? – поинтересовалась Анна из глубины шезлонга.
Момент настал: потрясающе забавный рассказ дождался своего часа.
– Ну, начать с того, что… – счастливо улыбаясь, произнес Дэнис.
– Присцилла рассказала вам о нашей выдающейся археологической находке? – Генри Уимбуш наклонился к нему через стол. Рассказ, на который было столько надежд, завял в зародыше.
– Начать с того… – в отчаянии сделал еще одну попытку Дэнис, – что балет…
– На прошлой неделе, – мягко, но непреклонно продолжил мистер Уимбуш, – мы раскопали пятьдесят ярдов дубовых дренажных труб; это просто древесные колоды, выдолбленные изнутри. Чрезвычайно интересно. То ли они были уложены монахами в пятнадцатом веке, то ли…
Дэнис слушал с угрюмым видом.
– Невероятно, – безразлично произнес он, когда мистер Уимбуш закончил. – Совершенно невероятно.
Он взял еще кусочек кекса. Ему даже расхотелось рассказывать про Лондон, из него словно выпустили весь пар.
Между тем строгий взгляд Мэри уже некоторое время был устремлен именно на Дэниса.
– Что вы пишете в последнее время? – спросила она.
Ну что ж, немного поболтать о литературе тоже недурно.
– А, пустяки – стихи, прозу, – ответил он.
– Прозу? – настороженно повторил последнее слово мистер Скоуган. – Вы пишете прозу?
– Да.
– Уж не роман ли?
– Да, роман.
– Бедный мой Дэнис! – воскликнул мистер Скоуган. – И о чем же?
Дэнису стало не по себе.
– Да так, о вполне обычных, знаете ли, вещах.
– Ну разумеется, – простонал мистер Скоуган. – Хотите, я перескажу вам сюжет? Малыш Перси, герой, никогда не отличался спортивностью, но был чрезвычайно умен. Он, как положено, окончил частную школу и, опять же как положено, университет, после чего прибыл в Лондон, где свел дружбу с творческой богемой. Его гложет тоска, он несет на своих плечах все тяготы мира. Он пишет захватывающий, блестящий роман, осторожно пробует себя на любовном поприще и в конце книги удаляется в сияющее будущее.
Дэнис ярко зарделся. Мистер Скоуган изложил план его романа с ошеломляющей точностью. Он натужно рассмеялся.
– Ничего подобного, – не согласился он. – Мой роман совсем о другом.
Это была геройская ложь. Хорошо, что у меня пока написано только две главы, подумал он, преисполняясь решимости разорвать их сегодня же вечером, как только распакует вещи.
Не обратив ни малейшего внимания на его возражения, мистер Скоуган продолжил:
– И почему вы, молодежь, все время пишете о таких совершенно неинтересных темах, как внутренний мир незрелых молодых людей и художников? Профессиональным антропологам, может, и интересно иногда переключаться с изучения верований австралийских аборигенов на философские пристрастия студента-старшекурсника, но нельзя же рассчитывать, что человека взрослого, вроде меня, тронет история его духовных терзаний. А ведь, в конце концов, даже в Англии, Германии и России взрослых людей больше, чем юношей. Что же касается художника, то он озабочен проблемами, совершенно чуждыми тем, что занимают обычного взрослого человека, – проблемами чисто эстетического свойства, которые не волнуют таких людей, как я; описание процессов, происходящих у него в душе, так же навевает скуку на рядового читателя, как чистая математика. Серьезную книгу о художниках как таковых невозможно читать, а книги о художниках как любовниках, мужьях, алкоголиках, героях и тому подобном не стоят того, чтобы их множить. Жан-Кристоф – заезженный литературный персонаж, так же как профессор Радиум из «Всякой всячины» – заезженный образ ученого.
– Прискорбно слышать, что я настолько неинтересен, – вставил Гомбо.
– Что вы, дорогой мой! – поспешил утешить его мистер Скоуган. – Не сомневаюсь, что в качестве любовника или алкоголика вы – в высшей степени занимательная особа. Но будьте честны, признайте: как комбинатор форм на холсте вы скучны.
– Совершенно с вами не согласна! – воскликнула Мэри. Почему-то, разговаривая, она всегда слегка задыхалась, и речь ее, словно пунктирная линия, прерывалась короткими вздохами. – Я знала многих художников и всегда находила их внутренний мир очень интересным. Особенно в Париже. Например, Чаплицкий – мы часто встречались с Чаплицким в Париже этой весной…
– О, ну тогда вы – исключение, Мэри. Вы – исключение, – повторил мистер Скоуган. – Вы – femme supérieure[12].
Лицо Мэри, залитое румянцем удовольствия, напоминало полную луну.
Глава 4
Проснувшись на следующий день, Дэнис увидел, что солнце сияет, а небо безмятежно. Он решил надеть белые фланелевые брюки – белые фланелевые брюки, черный пиджак с шелковой рубашкой и новым галстуком персикового цвета. А какие туфли? Очевидным выбором казались белые, но очень уж привлекательно выглядели черные лаковые. Несколько минут он лежал в постели, размышляя над этим вопросом.
Прежде чем спуститься к завтраку – остановив в конце концов выбор на лакированной коже, – он критически оглядел себя в зеркале. Волосы могли бы быть более золотистыми, подумал Дэнис. Их желтизну приглушает какой-то зеленоватый оттенок. А вот лоб хорош. Его высота уравновешивала некоторую срезанность подбородка. Нос тоже мог бы быть подлиннее, но и так неплохо. Глаза лучше бы были не зелеными, а голубыми. Зато пиджак скроен отлично и благодаря небольшим набивкам в нужных местах делает фигуру более представительной, чем есть на самом деле. Ноги, обтянутые белой фланелью, были длинными и изящными. Удовлетворенный, Дэнис спустился по лестнице. Бо́льшая часть компании уже позавтракала. Он оказался наедине с Дженни.
– Надеюсь, вы хорошо спали, – сказал он.
– Да. Прекрасная погода, не находите? – поинтересовалась Дженни, дважды коротко кивнув. – А вот на прошлой неделе были такие ужасные грозы.
Параллельные прямые, подумалось Дэнису, пересекаются лишь в бесконечности. Он мог бы до скончания века рассуждать о благотворности сна, она все равно отвечала бы ему рассуждениями на метеорологические темы. Возможно ли вообще установить контакт с кем бы то ни было? Мы все – параллельные прямые. Дженни была лишь чуть-чуть параллельней других.
– Грозы всегда наводят страх, – заметил он, накладывая в тарелку овсянки. – Вы так не думаете? Или вы выше страхов?
– Нет. Во время грозы я всегда ложусь в постель. Горизонтальное положение гораздо безопаснее.
– Почему?
– Потому что молния ударяет сверху вниз, – Дженни дополнила свое объяснение соответствующим жестом, – а не по горизонтали. И если вы лежите, положение вашего тела не совпадает с направлением тока.
– Это очень изобретательно.
– Это так, как есть.
Оба замолчали. Дэнис покончил с овсянкой и положил себе бекона. Не найдя более подходящей темы для разговора и вспомнив почему-то нелепую фразу мистера Скоугана, он повернулся к Дженни и спросил:
– А вы считаете себя femme supérieure?
Ему пришлось повторить вопрос несколько раз, прежде чем его смысл дошел до Дженни.
– Нет, – почти возмущенно ответила она, расслышав наконец вопрос. – Разумеется, нет. А что, кто-то высказал такое предположение?
– Нет, – произнес Дэнис. – Мистер Скоуган так назвал Мэри.
– В самом деле? – Дженни понизила голос. – Сказать вам, что я думаю об этом человеке? Я думаю, что в нем есть нечто зловещее.
Сделав такое заявление, она уединилась в своей глухоте, словно в башне из слоновой кости, и захлопнула за собой дверь. Дэнису больше ничего не удалось из нее вытянуть и даже заставить слушать. Она лишь улыбалась ему и время от времени кивала.
Он вышел на террасу выкурить первую после завтрака трубку и почитать утреннюю газету. Часом позже, спустившись вниз, Анна обнаружила его все еще углубившимся в чтение. К тому времени он добрался до судебной хроники и брачных объявлений. Дэнис встал навстречу ей, лесной нимфе в белом муслине.
– О боже, Дэнис! – воскликнула она. – Вы абсолютно неотразимы в этих белых брюках!
Застигнутый врасплох, он не нашелся с ответом.
– Вы разговариваете со мной так, будто я ребенок в новом костюмчике, – сказал Дэнис, изображая раздражение.
– Но именно так я вас и воспринимаю, дорогой.
– А не стоило бы.
– Ничего не могу с собой поделать. Я ведь настолько старше вас.
– Нет, как вам это нравится? – возмутился он. – Всего-то на четыре года.
– Но если вы действительно неотразимы в своих белых брюках, почему бы мне не отметить это? И зачем вы их надели, если не рассчитывали на то, что будете в них неотразимы?
– Пойдемте в сад, – предложил Дэнис.
Он был выбит из колеи; разговор развивался нелепым и непредвиденным образом. Дэнис планировал совершенно другое начало: он первым должен был сказать: «Вы сегодня восхитительно выглядите» или что-нибудь в этом роде, на что она ответила бы: «Вам так кажется?», после чего последовало бы многозначительное молчание. Вместо этого Анна первой заговорила о злосчастных брюках. Его это раздосадовало; гордость была задета.
Красота той части сада, которая сбегала от подножия террасы к бассейну, определялась не столько цветом, сколько формами. В лунном свете она была так же прекрасна, как и в солнечных лучах. Серебро воды и темные в любой час дня и ночи, в любое время года очертания тисов и падубов являли собой доминанту ландшафта. Черно-белый пейзаж. Для любования красками имелся цветник, он располагался по одну сторону бассейна и был отгорожен от него вавилонской стеной гигантских тисов. Вы проходили через тоннель этой живой изгороди, открывали калитку в стене и безо всякой подготовки, к полному своему изумлению, оказывались в многокрасочном мире. Шпалеры июльских цветов пламенели и трепетали под солнцем. Окруженный высокой стеной, сад напоминал огромный резервуар тепла, ароматов и красок.
Дэнис придержал для спутницы маленькую железную калитку.
– Все равно как из монастырской кельи перейти в восточный дворец, – сказал он и глубоко вобрал в себя теплый, напоенный цветочными ароматами воздух. – «Благоуханный фейерверк!..»[13] Как там дальше?
Отменный залп! Ложатся кругомОгни цветные друг за другом,Неслышной канонадой манятИ запахом садов дурманят.– У вас ужасная привычка цитировать, – сказала Анна. – Поскольку я никогда не могу угадать ни содержание, ни автора, я чувствую себя униженной.
Дэнис извинился.
– Это издержки образованности. Почему-то представляется, что ситуация становится более реальной и живой, если приложить к ней чужие готовые фразы. Существует столько красивых названий и имен – монофизит, Ямбликус, Помпонацци; вытаскиваешь их победно на свет – и кажется, что само их магическое звучание ставит точку в споре. Вот до чего доводит образование.
– Хорошо вам сетовать на избыток образования, – произнесла Анна, – а я вот стыжусь его нехватки. Взгляните на эти подсолнухи! Ну не чудо ли они?
– Черные лица и золотые короны – они похожи на эфиопских царей. Мне нравится, как синицы приникают к цветку и аккуратно выклевывают семечки, в то время как другие, неделикатные птицы, роются в грязи в поисках пищи и с завистью смотрят на них снизу вверх. Смотрят с завистью? Боюсь, это опять слишком литературно. Снова эта образованность. Вечно она вылезает. – Он замолчал.
Анна к этому времени уже сидела на скамейке, стоявшей под сенью старой яблони.
– Продолжайте, я слушаю, – проговорила она.
Дэнис не стал садиться, он ходил перед скамейкой и разглагольствовал, энергично жестикулируя:
– Книги, книги… Их читаешь так много, а с людьми общаешься так мало и так мало видишь мир. Огромные толстые книги о вселенной, о психологии, об этике. Вы представить себе не можете, как их много. За последние пять лет я прочел тонн двадцать или тридцать. Двадцать тонн рассуждений, представляете? И вот, придавленный этой тяжестью, оказываешься вытолкнутым в реальный мир.
Он продолжал ходить туда-сюда. Голос его то поднимался, то падал, замолкал на миг, затем начинал звучать снова. Он поводил кистью, иногда взмахивал всей рукой. Анна смотрела и слушала молча, словно присутствовала на лекции. Он был славным мальчиком и выглядел сегодня прелестно – просто прелестно!
– Вот так, нашпигованный готовыми представлениями обо всем, и вступаешь в мир, – продолжал Дэнис. – В твоей голове уже сложилась некая философия, и ты пытаешься подогнать под нее жизнь… А следовало бы сначала пожить, а потом уже изобретать философию, соответствующую жизни… Ведь жизнь, события, факты невероятно сложны; а идеи, даже самые мудреные, обманчиво просты. В мире идей все просто; в жизни все неясно и запутано. Стоит ли удивляться, что начинаешь чувствовать себя жалким и несчастным?
Последний вопрос Дэнис задал, остановившись перед скамейкой и раскинув руки, в позе распятия; постояв так мгновение, он бессильно уронил их.
– Бедный мой Дэнис! – посочувствовала Анна. Он и впрямь был жалок, стоя перед ней в белых фланелевых брюках. – Но стоит ли страдать из-за подобных вещей? Мне кажется, это чересчур.
– Вы прямо как Скоуган! – с горечью воскликнул Дэнис. – Видите во мне лишь объект изучения для антрополога. Впрочем, наверное, так оно и есть.
– Нет-нет, – запротестовала Анна и подобрала юбку, освобождая ему место рядом. Он сел. – Почему вы не можете смотреть на мир как на нечто само собой разумеющееся, принимать вещи такими, каковы они есть? – спросила она. – Так ведь гораздо проще.
– Разумеется, проще, – согласился Дэнис. – Но этот урок нужно усваивать постепенно. И для начала сбросить с себя двадцатитонный груз чужого знания.
– А я всегда принимаю вещи такими, какие они есть, – сказала Анна. – По-моему, это так очевидно: радуешься всему приятному, стараешься избегать дурного. О чем тут еще говорить?
– Для вас – не о чем. Но это потому, что вы родились язычницей; я тоже изо всех сил стараюсь им язычником. Но я ничего не могу принимать на веру, ничему не могу радоваться просто так. Красота, удовольствия, искусство, женщины – мне непременно требуется найти объяснение, оправдание всему, что доставляет наслаждение. Иначе я не могу наслаждаться с чистой совестью. Мне непременно нужно придумать какую-нибудь историю о красоте и притвориться, будто она имеет отношение к добру и истине. Вынужден признать, что искусство – это процесс, в ходе которого из хаоса воссоздается богоданная реальность. Удовольствие – наслаждение опьянением, танцем, любовью – одна из мистических троп к слиянию с беспредельным. Что же касается женщин, то я постоянно убеждаю себя, что они – дорога к божественному. И вы только подумайте: лишь теперь я начинаю понимать, какая все это глупость! Мне кажется невероятным, что есть люди, которым удалось избежать столь чудовищных заблуждений.
– А мне кажется еще более невероятным, – заметила Анна, – что есть люди, которые пали их жертвой. Хотела бы я посмотреть на себя, представляющую, будто мужчины – дорога к божественному. – Удовольствие и злоба отразились в ее улыбке, обозначившей две маленькие складки в уголках рта, а в прикрытых глазах искрился смех. – Что вам нужно, Дэнис, так это маленькая пухленькая молодая жена, стабильный доход и необременительная приятная, но постоянная работа.
«Что мне нужно, так это вы», – вот что следовало бы ему выпалить, вот что он страстно хотел ей сказать. Но не смел. Желание боролось в нем с робостью. «Что мне нужно, так это вы!» – Дэнис мысленно выкрикивал эти слова, но ни звука не сорвалось с его губ. Он смотрел на нее с отчаянием. Неужели она не видит, что происходит у него внутри? Неужели не понимает? «Что мне нужно, так это вы». Он должен это сказать, должен… должен.
– Пойду-ка я искупаюсь, – сказала Анна. – Очень жарко.
Возможность была упущена.
Глава 5
Мистер Уимбуш предложил гостям осмотреть свою ферму, и вот они вшестером – Генри Уимбуш, мистер Скоуган, Дэнис, Гомбо, Анна и Мэри – стояли перед низкой оградой свинарника, заглядывая в одну из клетушек.
– Это хорошая свиноматка, – рассказывал мистер Уимбуш. – Она принесла четырнадцать поросят.
– Четырнадцать? – недоверчиво переспросила Мэри. Она перевела изумленный взгляд на Генри, потом обратно – на копошащуюся массу élan vital[14], оживлявшую загон.
Необъятных размеров свинья лежала на боку прямо посередине, позволив атаковать круглый черный живот, обрамленный двумя рядами сосков, целой армии маленьких коричнево-черных поросят, которые с бешеной жадностью терзали их. Свинья время от времени беспокойно шевелилась или негромко хрюкала от боли. Одному поросенку, самому маленькому и слабому из помета, никак не удавалось заполучить место на этом пиршестве. Пронзительно визжа, он метался взад-вперед, пытаясь протиснуться между более сильными братьями и сестрами и даже влезть на их плотненькие черные спинки, чтобы добраться до материнского молока.
– Их действительно четырнадцать, – произнесла Мэри. – Вы совершенно правы. Я сосчитала. Невероятно!
– А вот у свиноматки в соседней клетушке, – продолжал мистер Уимбуш, – очень плохие результаты – всего пять поросят. Я дам ей еще один шанс. Если она и в следующий раз плохо себя покажет, откормлю и зарежу. А там – кабан. – Он указал на дальний загон. – Прекрасный зверь, не правда ли? Но свое лучшее время он уже прожил. С ним тоже придется расстаться.
– Как это жестоко! – воскликнула Анна.
– Зато практично и исключительно реалистично, – заметил мистер Скоуган. – Эта ферма являет собой модель здорового, по-отечески разумного управления: заставить их размножаться и работать, а когда период плодотворного размножения, работы и производительности минует, – отправить на убой.
– Похоже, животноводство – сплошная непристойность и жестокость, – посетовала Анна.
Дэнис протянул руку и металлическим наконечником трости начал почесывать длинную щетинистую спину борова. Животное чуть подалось вперед, словно желая оказаться поближе к предмету, доставлявшему ему столь приятные ощущения, и замерло, тихо похрюкивая от удовольствия. Многолетняя грязь, отшелушиваясь, сыпалась с его боков серыми пыльными хлопьями.
– Как приятно, – проговорил Дэнис, – оказать кому-то добрую услугу. Думаю, почесывая этого кабана, я получаю не меньшее удовольствие, чем он. Если бы всегда можно было проявлять доброту вот так просто, чтобы тебе это ничего не стоило…
Хлопнула калитка, послышались тяжелые шаги.
– Доброе утро, Роули! – сказал Генри Уимбуш.
– Доброе утро, сэр, – ответил старик Роули.
Это был самый почтенный из работников фермы – высокий, крепкий мужчина, с прямой спиной, с седыми бакенбардами и чеканным горделивым профилем. Степенный, с вальяжными манерами и поразительным чувством собственного достоинства, Роули походил на важного английского вельможу девятнадцатого века. Он остановился рядом с группой экскурсантов, и с минуту все наблюдали за животными в тишине, нарушаемой лишь похрюкиванием да чавканьем грязи под твердыми копытами. Наконец Роули – не торопясь, веско и с достоинством, как делал все, – обратился к Генри Уимбушу, указывая на копошащихся в грязи животных:
– Вы только посмотрите на них, сэр. Недаром их зовут свиньями.
– И впрямь недаром, – согласился Генри.
– Этот человек приводит меня в замешательство, – признался мистер Скоуган, когда старик Роули удалился, медленно и с достоинством. – Какая мудрость, какая рассудительность, какое понимание истинных ценностей! «Не даром их зовут свиньями». Да. Хотелось бы мне иметь такое же основание сказать: «Не даром мы называемся людьми».
Они двинулись дальше, к коровникам и конюшням ломовых лошадей. По дороге им повстречалась пятерка белых гусей, видимо, вышедших, как и они сами, подышать воздухом в это прекрасное утро. Гуси, гогоча, затоптались на месте, а потом, вытянув шеи и угрожающе шипя, словно змеи, бросились врассыпную. На просторном дворе месили навоз и грязь рыжие телята. В отдельном загоне стоял бык, массивный, как паровоз. Это был очень смирный бык с уныло-тупым выражением на морде. Уставившись на визитеров коричневыми, налитыми кровью глазами, он – видимо, вспоминая утреннюю трапезу – срыгивал, задумчиво жевал, глотал и срыгивал снова. Его хвост свирепо метался из стороны в сторону, и казалось, что он не имеет ничего общего с неподвижной тушей. Между короткими рогами кольцами вился треугольник густой рыжей шерсти.
– Восхитительное животное, – заметил Генри Уимбуш. – Породистый, племенной. Но староват становится, как и кабан.
– Откормите его и – на убой, – посоветовал мистер Скоуган с чувствительностью старой девы, отчетливо произнося каждое слово.
– А нельзя ли дать животным немного отдохнуть от деторождения? – спросила Анна. – Мне так жаль бедолаг.
Мистер Уимбуш покачал головой.
– Мне лично, – сказал он, – очень нравится видеть, как там, где раньше жила одна свинья, подрастают четырнадцать новых. Созерцание дикой, естественной жизни действует освежающе.
– Рад слышать это от вас, – горячо вклинился Гомбо. – Больше жизни – вот что нам нужно. Я – за размножение; все должно расти и множиться в полную силу.
Гомбо ударился в лирику. Все должны иметь детей – у Анны они должны быть, у Мэри они должны быть – десятки, десятки детей. Свою точку зрения он подкрепил, похлопав тростью по кожаным бычьим бокам. Мистер Скоуган обязан передать свой интеллект маленьким Скоуганам, а Дэнис – маленьким Дэнисам. Бык повернул голову посмотреть, что происходит, несколько секунд пялился на трость, барабанившую по его бокам, потом, судя по всему, удовлетворенный, отвернулся снова, словно ничего и не происходило. Бесплодие одиозно, неестественно, это грех перед жизнью. Жизнь, жизнь и еще раз жизнь. Художник прошелся тростью по ребрам смирно стоящего животного.
Прислонившись к насосу, Дэнис стоял чуть поодаль и наблюдал за группой. Ее ядро представлял страстный, жизнелюбивый Гомбо. Остальные слушали, обступив его: Генри Уимбуш – спокойно и вежливо; Мэри, убежденная сторонница контроля за рождаемостью, – приоткрыв рот и возмущенно сверкая глазами; Анна смотрела куда-то перед собой из-под опущенных век и улыбалась; рядом с ней стоял мистер Скоуган, прямой и несгибаемый, как металлический шест, его поза резко контрастировала с текучей грацией Анны, которая предполагала плавность движения даже в состоянии покоя.
Гомбо замолчал, и Мэри, раскрасневшаяся и сердитая, открыла было рот, чтобы возразить ему. Но не успела: прежде чем она произнесла хоть слово, мистер Скоуган начал свою речь, вклиниться в которую не представлялось возможным. Волей-неволей Мэри была вынуждена отступить.
– Даже ваше красноречие, мой дорогой Гомбо, – вещал мистер Скоуган, – даже ваше красноречие не в состоянии обратить человечество в другую веру и убедить его в усладе простого размножения. С изобретением граммофона, кинематографа и автоматического оружия богиня прикладной науки облагодетельствовала мир иным даром, более ценным, нежели эти, – средствами, позволяющими разграничить любовь и размножение. Эрос для тех, кто того желает, стал совершенно независимым богом; его прискорбная связь с Луциной[15] может быть разорвана кем угодно по желанию. А в ходе последующих веков – кто знает? – мир, вероятно, увидит их более полное разделение. Я лично жду этого с оптимизмом. Там, где экспериментировали, но, несмотря на научное рвение, не преуспели великий Эразм Дарвин[16] и мисс Анна Сьюард, Лебедь Личфилда[17], наши потомки могут оказаться более удачливыми в своих опытах. Обезличенное рождение придет на смену той уродливой биологической системе, которую дала нам Природа. Необозримые государственные инкубаторы с громоздящимися друг над другом рядами «заряженных» пробирок будут обеспечивать мир тем количеством населения, которое ему требуется. Институт семьи исчезнет; общество, подорванное в самой своей основе, будет вынуждено искать иные опоры; а Эрос, очаровательно и безответственно свободный, будет весело порхать с цветка на цветок, словно бабочка в солнечном свете.
– Звучит восхитительно, – сказала Анна.
– Отдаленное будущее всегда так звучит.
Взгляд фарфорово-синих глаз Мэри, еще более серьезный и озадаченный, чем обычно, не отрывался от мистера Скоугана.
– Пробирки? – переспросила она. – Вы действительно в это верите? Пробирки…
Глава 6
Мистер Барбекью-Смит появился в субботу как раз к чаю. Это был невысокого роста дородный мужчина с очень большой головой и без шеи. В молодости его очень расстраивало отсутствие шеи, но он утешился, прочтя у Бальзака в «Луи Ламбере», что все великие мира сего обладали этой особенностью по простой и очевидной причине: величие есть не больше не меньше, чем гармоничное взаимодействие функций мозга и сердца; чем короче шея, тем ближе эти два органа находятся друг к другу; argal[18]… Это было убедительно.
Мистер Барбекью-Смит принадлежал к старой школе журналистики. Он щеголял львиной головой с гривой припорошенных сединой черных, удивительно неопрятных волос, которые зачесывал назад с широкого, но низкого лба. И сам он почему-то всегда казался чуточку, самую малость, грязноватым. В молодости он шутливо называл себя человеком богемы. Сейчас перестал. Сейчас он был учителем, своего рода пророком. Тираж некоторых из его книг об утешении и духовном учении превысил сто двадцать тысяч экземпляров.