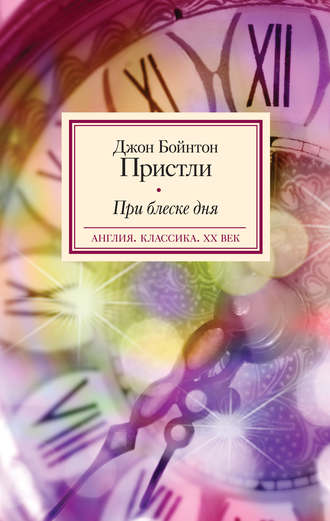
Полная версия
При блеске дня
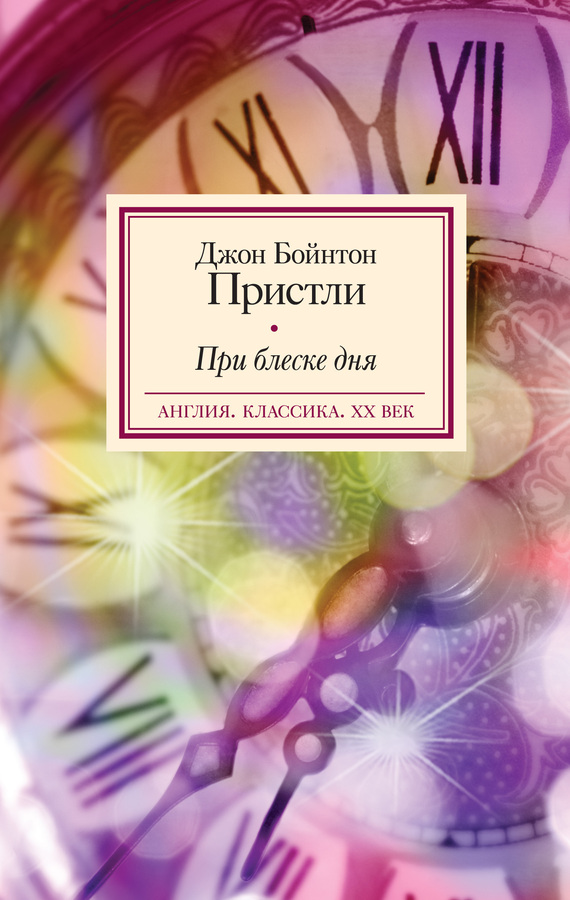
Джон Бойнтон Пристли
При блеске дня
Посвящаю жене за 14 сентября
При блеске дня ехидна выползает…
Уильям Шекспир. Юлий Цезарь[1]J.B. Priestley Bright Day
Печатается с разрешения автора и литературных агентств United Agents Ltd и Synopsis.
© J.B. Priestley, 1946
Школа перевода В. Баканова, 2013
© Издание на русском языке AST Publishers, 2014
Глава первая
Поехать в Тралорну и остановиться в гостинице «Ройял оушен» мне предложил Брент, кинопродюсер. По его заказу я писал сценарий для фильма «Леди наносит ответный удар» – точнее, несколько месяцев валял дурака, пока Брент внезапно не заявил, что сценарий ему нужен как можно скорее. Чтобы закончить работу в сжатые сроки, мне было просто необходимо куда-нибудь уехать. Брент предложил Тралорну и «Ройял оушен». В прошлом году они снимали в Корнуолле фильм и останавливались там со съемочной группой. «Лучше места не придумаешь, Грег, – сказал он. – Делать там совершенно нечего, только работать. Номер у тебя будет размером с кинопавильон, кормежка никудышная, а большинство постояльцев приехали туда доживать последние дни. Словом, голодно и скучно – идеальные условия для работы. Смотри не обмолвись хозяевам о нашем знакомстве: они меня на дух не переносят. Бар в гостинице, кстати, приличный, но советую тебе там не засиживаться. Чтобы к середине следующего месяца сценарий был готов!»
И я поехал. А Брент (который всегда говорит так, что невольно сомневаешься в любых его суждениях) вновь меня удивил: все его суждения по поводу гостиницы «Ройял оушен» оказались совершенно справедливы. О лучшем месте для работы нельзя было и мечтать. Меня поселили в огромном номере на самом верху башни, и, работая высоко над сверкающим морем, я чувствовал себя смотрителем маяка. Кормили и впрямь скверно, а крошечные порции строго выверенных размеров наводили на мысль о бригаде физиков в поварских колпаках; большинство постояльцев действительно выглядели так, словно приехали сюда доживать последние деньки, а некоторые – словно уже дожили и призраками навек поселились в этих стенах. Мне было голодно, скучно, и я много работал.
Бар действительно оказался неплохим, а Брента и съемочную группу хозяева вспоминали так, как жители разоренного города вспоминают армию оккупантов. Гостиница была больше, чем я ожидал; она стояла на высоком утесе, за окнами столовой кричали чайки, а где-то далеко внизу ворчал и вздрагивал Атлантический океан. На стенах коридора и вестибюля висело множество бутафорских копий, алебард, щитов и доспехов – сплошные свирепые львы и отдыхающие леопарды. Такое впечатление, что кинокомпания «Метро-Голдвин-Майер» недавно снимала здесь малобюджетный фильм «Айвенго».
Мой режим труда и отдыха был простым и скучным, как тарелка холодной овсянки. Все утро я тарабанил двумя пальцами по клавишам пишущей машинки у себя в башне, затем спускался к позднему обеду в столовую. Днем я бездельничал и отправлялся на прогулку то в деревню, то по дорожкам вдоль обрыва. Выпив чаю раньше положенного, я возвращался в башню и вкалывал до восьми, после чего торопливо шел в бар, где выпивал стаканчик розового джина, а потом принимался за одинокий ужин в углу столовой. К девяти часам я обязательно приходил в вестибюль послушать новости: среди свирепых и отдыхающих зверей гремело радио, сотрясая стены своей беззаветной уверенностью в будущем и рассказами слепцов о земле обетованной. Когда же трио (о них я поведаю позже) вновь принималось играть Эрика Коутса или Коула Портера, я прятался в баре или возвращался к себе, где порой разговаривал по телефону с Брентом или Георгом Адонаем, режиссером фильма, а чаще просто набрасывал план завтрашней работы – и непременно читал американские детективы самого низкого пошиба, многие из которых вышли из-под пера моих вечно пьяных голливудских коллег.
В Корнуолле царила весна, о том говорили все приметы: хлесткий дождь внезапно сменялся ослепительным солнцем, по небу стремительно плыли облака, похожие на ветхие паруса, внизу бесновался зеленый океан, вдоль обрыва цвел утесник, а рядом с гостиницей красовались пышные подушки примул. Однако все это словно бы происходило где-то в стороне и не имело ко мне никакого отношения. Весна не входила в мои рабочие планы, скучные и безотрадные, как и обещал Брент, – а значит, ничто не отвлекало меня от писанины.
Сцена за сценой, кадр за кадром нового фильма «Леди наносит ответный удар» появлялись на бумаге, точно по волшебству. Впрочем, это вовсе не значит, что мне не пришлось потрудиться. Когда пишешь сценарий, работает только одна часть мозга, зато работает на износ: старое доброе подсознание в таких делах не помощник. Как ни бейся, в глубинах разума сокровищ не найдешь, остается только работать извилинами и потеть.
Тут я должен заметить – это имеет значение для моего рассказа, – что будущий фильм был вовсе не так прост, как может показаться на первый взгляд и каковым он предстал бы в пресс-релизах. Мы не хотели снимать обыкновенную полуторачасовую комедию с парочкой трюизмов в финале. По сути своей картина была жесткой и холодной; ее игрушечные герои существовали в мире черного льда. Мы – Брент, я и Георг – хотели исподволь внушить миллионам и миллионам зрителей, расслабленно сидящих во мраке кинозалов, одну мысль: от этого мира нельзя ждать ничего хорошего, дальше будет только хуже, не позволяйте водить себя за нос. И хотя мы никогда не заикались об этом даже друг другу, каждый прекрасно знал, что делает и что остальные двое тоже это знают. Вот она, главная тайна кинопроизводства (пусть рекламные агенты, прокатчики и критики о ней не догадываются), самое настоящее волшебство кинематографа – это тихое нашептывание в темноте на ухо пятидесяти миллионам. Наверное, ошибочно утверждать, будто подсознание не играет в моем деле никакой роли, однако факт остается фактом: каждую сцену, каждую реплику ты спокойно и сознательно продумываешь и выписываешь. Это тяжелый труд.
В гостинице было около сорока постояльцев – сплошь старики да несколько молодых пар, которые заново познавали друг друга после войны. Каждый день я перекидывался с кем-нибудь парой слов – главным образом в баре, – но намеренно не заводил близких знакомств, ведь я приехал сюда работать, а не отдыхать. Особенно тщательно я избегал компании в первые дни, пока раскачивался; впрочем, я и потом продолжал держаться особняком, просто потому что никто меня особо не заинтересовал. И все же одна пара, поселившаяся в гостинице несколькими днями позже, пробудила во мне любопытство. В столовой они сидели всего через два столика от меня. На вид они были весьма состоятельны, даже богаты – обоим под шестьдесят, оба высокие, худые и какие-то иссохшие, словно бескровные. Как часто бывает с престарелыми супружескими парами, на первый взгляд они казались удивительно похожими друг на друга. Примерно одного роста, одинаково сухие, серые, почти прозрачные, с маленькими головами и плоскими лицами. Но вскоре я заметил, что у него глаза были голубые, холодные и мутноватые, а у нее – темные, беспокойные и по-прежнему ясные. Все говорило о том, что некогда она была очень красивой женщиной, однако из-за многочисленных процедур по возвращению молодости выглядела она гораздо старше и хуже своих сверстниц, которые не могли тратить столько времени и денег на внешность. Ее супруг был моложав, розовощек и вроде бы приятен в общении, но что-то в его взгляде говорило о склонности чрезмерно потакать собственным слабостям, которая свойственна многим престарелым зажиточным англичанам и всегда вызывала во мне отторжение.
Любопытство во мне проснулось от смутного чувства, что я уже где-то видел этих людей. Или они просто напомнили мне каких-то давних знакомых… Но кого? Когда и при каких обстоятельствах мы встречались? То и дело за обедом и ужином я напряженно изучал супружескую чету, силясь раскопать в памяти хоть что-нибудь… Все было тщетно. Эта маленькая неразгаданная тайна вскоре начала действовать мне на нервы, и потому несколько дней спустя я решил навести справки об этих загадочных и неприятных людях, которые, между прочим, не проявляли ко мне ни малейшего интереса. Я задал несколько вопросов завсегдатаям бара и в конце концов разузнал, что супружеская чета – лорд и леди Харндин. Он раньше был успешным коммерсантом и прямо перед войной получил дворянский титул.
Все эти сведения никак мне не помогли. Фамилию «Харндин» я слышал впервые.
– Раньше его звали иначе, – припомнил мой собеседник, мужчина по имени Хорнкасл. – Вот только не помню как. Во время войны он работал на правительство, но сейчас, конечно, все бросил. Может, вы на войне встречались?
Я точно знал, что нет.
– Если мы и встречались, то намного раньше. Из Америки я вернулся в начале сорокового и прожил там десять лет – в основном в Голливуде.
– В Голливуде! – сразу оживился Хорнкасл.
Удивительно, как часто люди оживляются при упоминании Голливуда – даже умудренные жизнью старики. Они могут не знать по имени ни единого продюсера, режиссера, сценариста, однако слово «Голливуд» неизменно заставляет их расплываться в улыбке. Звезды кино! Блондинки на миллион долларов! Оргии и пирушки!.. Хорнкасл едва не облизнулся от любопытства.
– Вы работаете в кино, Доусон?
– Да. Пишу сценарии.
– Стало быть, придумываете все, что будут говорить и делать на экране?
– По большей части.
Выкладывать ему сочные подробности голливудской закулисной жизни я не собирался, поэтому сослался на то, что у меня много работы, и отбыл. На обратном пути я принял решение выбросить несчастных Харндинов из головы. В конце концов спонсоры мне не нужны, так с какой стати я днями напролет думаю о титулованных богачах? Тем более они сами никакого интереса ко мне не проявляют. Довольно, сказал я себе, отныне никаких Харндинов.
Наверное, я бы так и не вспомнил, кто они такие, если бы не Шуберт.
Вот и настала пора рассказать о музыкальном трио. За роялем сидел старый чех по имени Зенек, который попусту растрачивал свой талант в баре; выяснилось, что я знаком с его братом, похожим на него как две капли воды, только гораздо ниже ростом и чистоплотнее, – тот работал помощником режиссера в «Парамаунте». Скрипачка Сьюзен и виолончелистка Синтия, взъерошенные, но милые девушки из Королевского колледжа, приехали сюда ради бесплатного отдыха на море играть в баре Кольриджа-Тейлора, Эрика Коутса, Джерома Керна и иже с ними. Сьюзен была бойкая коротышка, а Синтия – очень высокая и тихого нрава. Девушки меня забавляли, причем не столько своей непохожестью друг на друга, сколько неизмеримым презрением к гостинице «Ройял оушен» и всем ее постояльцам. После чая и короткого разговора с Зенеком о его брате я обыкновенно перекидывался с девушками парой слов и высмеивал их репертуар (надо сказать, они относились к себе очень серьезно). Я шутил, что до настоящих музыкантов им как до луны, и ужасно злил этим обеих девушек, но в особенности бойкую Сьюзен. Назло мне они однажды решили сыграть Шуберта – и так я познакомился с четой Харндинов.
Я спустился к чаю с небольшим опозданием, когда трио уже оттарабанило подборку вещиц из «Плавучего театра». Я заметил, что Сьюзен смотрит на меня особенно дерзко – у нее были очень выразительные темные глаза, – а высокая Синтия, обернувшаяся вокруг виолончели, уж очень робеет. Старик Зенек копался в нотах и весело ухмылялся. Я понял, что следующая композиция будет исполнена специально для меня. Музыканты вознамерились показать себя во всей красе. Я огляделся. Почти все постояльцы уже разошлись, и было очень тихо. Харндины все еще сидели за своим столиком; я строго велел себе не обращать на них внимания и стал ждать музыку, которую, подозреваю, не только выбрали, но и хорошенько отрепетировали. Наконец Сьюзен бросила на меня взгляд, в котором ясно читалось: «А вот съешь-ка!», и музыканты заиграли.
То была медленная часть трио Шуберта си-бемоль мажор, которое я сразу же узнал по виолончели, чей изящный голос медленно и мрачно покачивался на волнах бездонной нежности. Несколькими мгновениями позже, когда виолончель тихо зароптала где-то на втором плане, мелодию подхватила пронзительно-щемящая скрипка, но я был уже далеко, в давно забытом мире и забытой поре. Я – молодой Грегори Доусон восемнадцати лет, застенчивый и неуклюжий – вновь очутился в гостиной Элингтонов в Браддерсфорде. Это было полжизни назад, еще до начала Первой мировой. Тонкая лента музыки отодвигала один занавес за другим. Люди и места, которые, казалось, давно растворились в легчайших, почти незримых оттенках моей памяти или превратились в смазанные каракули на пожелтевших страницах старого дневника, начали внезапно вспыхивать перед моим взором, ослепительно живые, – а музыка все змеилась сквозь мое сердце подобно медленной процессии поджигателей. Дом Элингтонов, контора и склад на Кэнэл-стрит, домики на вересковых пустошах, сами Элингтоны: Оливер, Ева, Бриджит, Джоан и их друзья, дядя Майлс, тетя Хильда и вист… Экворт, старик Сэм и прочие мои коллеги с Кэнэл-стрит… Под пальцами вновь зашуршала голубая бумага для упаковки образцов шерсти, и словно по волшебству до меня донесся давно забытый аромат сирени, прибитой дождем летней пыли, чего-то горького… и над Бродстонской пустошью вновь вспархивали жаворонки. Когда музыка умолкла – случилось это скоро, поскольку трио сыграло лишь небольшой отрывок, – я с большим трудом вырвался из забытья, улыбнулся и похлопал музыкантам. В ту же секунду я вспомнил, кто такие лорд и леди Харндин: они по-прежнему чопорно сидели за столом, не разговаривая и не слушая музыку, а лишь молча и упорно борясь с дремотой этого праздного часа. Я поразился тому, что не узнал их сразу, ведь теперь мне было совершенно ясно – ошибки быть не могло, – это Малькольм Никси и его жена Элеонора, столь внезапно появившиеся в доме Элингтонов под эту самую музыку больше тридцати лет назад. Все мы с тех пор изменились, но как же я мог их не узнать?!
Конечно, они ничего не вспомнили; обратное было бы странно и совершенно для них противоестественно. Муж и жена сидели прямо, как штыки, и даже не помышляли о далеком 1913-м, – создания, вышедшие из троянского коня, которого мы столь неосмотрительно втащили в наш осажденный город. Малькольм и Элеонора Никси, внезапно нагрянувшие из Лондона и отобравшие у нас все самое дорогое, чтобы потом стать лордом и леди Харндин, теперь сидели в гостинице «Ройял оушен» Тралорна и гадали, куда себя деть.
Я вовсе не хотел с ними разговаривать; между нами не могло состояться радушной беседы. Однако желание встретиться с ними лицом к лицу оказалось слишком велико.
– Вот уже четыре дня я гадаю, где мы с вами могли видеться, – обратился я к Харндинам, – и наконец вспомнил.
Они любезно поздоровались, но не сумели скрыть некоторого смущения. Богатые люди должны быть осторожны.
– Меня зовут Грегори Доусон, больше тридцати лет назад мы с вами встречались в Браддерсфорде. Мы даже вместе работали – «Хавес и компания», помните?
Да конечно, теперь они вспомнили. Переглянувшись, супруги и меня одарили милой ностальгической улыбкой, непоколебимо уверенные в том, что я отдаю себе отчет, каким далеким и нелепым было наше браддерсфордское прошлое. В конце концов я ведь тоже отдыхаю в гостинице «Ройял оушен», не так ли? Состоятельный господин средних лет… Что ж, надо непременно встретиться за коктейлем или чашечкой кофе с ликером и вспомнить старые добрые времена. Примерно к этому, как я и предполагал, свелся наш разговор.
– Позвольте-ка, – все еще улыбаясь, сказал лорд Харндин, – вы ведь записались добровольцем, не так ли? А потом что? Торговлей больше не занимались?
– Нет, после демобилизации в 1919-м я получил работу на Флит-стрит, был несколько лет журналистом, написал пару романов, пьесу и в конечном итоге попал в Голливуд.
– А-а… кинематограф.
Я заметил, что Элеоноре тоже понравилось, как это звучит. Выходит, юный Доусон неплохо устроился. Кино – прибыльное дело.
– Помню-помню, – медленно проговорила она, бросив на меня весьма лестный взгляд по-прежнему красивых глаз, разом уничтоживший две мировые войны и годы неразберихи между ними, – вы и тогда были смышленым юношей, уже что-то писали.
– Больше болтал, чем писал. А теперь наоборот: приходится писать и помалкивать. Ну, мне пора, работа ждет, сроки горят. Еще увидимся – быть может.
Теперь лорд и леди смотрели на меня совсем другими глазами, нежели чем когда я впервые обратился к ним со словами о нашем общем прошлом. И все же в их взгляде сквозила неуверенность: они не могли решить, что думать о писателях, которые, как показывал опыт, могли быть и бездельниками, и могущественными злыми колдунами. В итоге Харндины на всякий случай попросили меня поскорее составить им компанию. (Настолько им было скучно и одиноко.) Я пообещал исполнить их просьбу и спешно удалился, ничем не выдав, что минуту назад передо мной разверзлась пропасть воспоминаний, – словно Браддерсфорд остался для меня в таком же далеком прошлом, как и для Харндинов, и словно Шуберт не нашептывал мне только что из могилы.
Глава вторая
Есть несомненные преимущества в том, что тебе пятьдесят и за плечами – серьезный профессиональный опыт. Я поднялся в номер с намерением долго работать – и работал. Пусть Браддерсфорд, Элингтоны, дядя Майлс и все остальные только что занимали мои мысли без остатка, усилием воли я отодвинул их на второй план и попросил подождать. Написанные в тот вечер сцены оказались ничуть не хуже и не лучше утренних или вчерашних; пожалуй, сначала мне было трудно сосредоточиться – но и только. Однако, спустившись вечером к ужину, я понял, что не смогу побеседовать с Малькольмом и Элеонорой Никси (называть их Харндинами язык не поворачивался), пока не приведу в порядок воспоминания о своей жизни в Браддерсфорде. А вдруг выяснится, что я в них ошибался? Была и другая опасность: если бы я не попытался воскресить в памяти события тех дней, не познакомился заново с четой Никси, то в непринужденной атмосфере посиделок за кофе, на фоне стариковской болтовни и успеха в высоком обществе я мог опуститься до такого же снисходительного отношения к собственной молодости, мог из одной только лени принять идеалы и воззрения Харндинов. В этом случае великое движение жизни и вызов, что звучали в медленной мелодии Шуберта, потеряли бы всякий смысл. А я хотел, чтобы они что-то значили. Это было мне необходимо, насколько нечто подобное вообще может быть необходимо человеку. Чтобы шагнуть вперед, я сперва должен сделать шаг назад.
Поэтому, когда после ужина я вошел в бар и увидел, как Никси выжидательно смотрят по сторонам (Малькольм даже помахал мне рукой), я подошел к их столику и сказал, что вынужден как можно скорее вернуться к работе. Они расстроились – причем искренне – и спросили, когда у меня будет свободное время. Быть может, завтра?
– А знаете, Доусон, – произнес Малькольм после минутного колебания, – по-моему, вы тоже давненько не вспоминали старый добрый Браддерсфорд. Столько воды утекло… Благодаря вам мы весь день предаемся воспоминаниям: Элеонора помнит одно, я другое. Люди, имена… Все это в некотором смысле любопытно.
– Не все наши воспоминания сходятся, – с улыбкой добавила его жена. На ней было черное платье, и она явно тщательно готовилась к ужину. Несмотря на старческую дряблую кожу и чересчур яркий макияж, который скорее подчеркивал возраст, нежели скрывал, в золотистом свете бара леди Харндин все еще была весьма привлекательна и не так уж безнадежно отличалась от Элеоноры Никси из моего прошлого. – Мы надеялись, вы нас рассудите, мистер Доусон. Если, конечно, из-за Голливуда и прочего память не подводит вас еще досаднее, чем нас.
– Посмотрим. Я действительно давно не думал о Браддерсфорде, – ответил я, – но память у меня хорошая. Так что продолжайте ностальгировать, а я присоединюсь к вам позже.
Тут кто-то подошел к столику и предложил Никси сыграть партию в бридж, поэтому я смог улизнуть. В номере – его изрядные размеры позволяли легко забыть, что это спальня, – я включил электрический камин, надел удобную пижаму, халат и тапочки, погрузился в кресло, закурил сигару, несколько минут слушал завывание ветра за окном башни и шелест прилива внизу, а затем отправился в далекое прошлое – прямиком в довоенный Браддерсфорд.
В Уэст-Райдинге живет немало Доусонов, однако в Браддерсфорде родилась моя мать, а не отец (он родом из Кента). В девичестве ее звали Лофтхаус, и они с отцом познакомились в Скарборо, если не ошибаюсь, во время его первого приезда домой из Индии, где он был на государственной службе. О своем раннем и позднем детстве я решил не писать – в тот вечер я о них не вспоминал, – так что предлагаю пропустить эту пору моей жизни и сразу перейти к рассказу о том, как я попал в Браддерсфорд.
Я был единственным ребенком в семье; поэтому, когда меня отправили учиться в частную школу (недорогую и малоизвестную), мама уехала к отцу в Индию и большую часть времени жила там. В последний год моей учебы – всего за несколько недель до сдачи вступительного экзамена в Кембридж, – мой отец, человек добросовестный и крайне упрямый, слег со страшной лихорадкой, а мама примчалась его выхаживать и пала жертвой той же эпидемии. В считанные дни я остался без обоих родителей. Потрясенный и раздавленный горем, я при всем желании не смог бы сдать вступительный экзамен. Порой мне казалось, что я тоже умер и превратился в привидение. Взрослея, мы часто забываем, что в юности отчаяние еще более громадно и всепоглощающе, чем оптимизм: никогда больше перед нами не вырастают столь неприступные голые стены печали. С годами я многое повидал – торчал в окопах по пояс в воде, угодил под пулеметный огонь, пережил бомбежку и отравление ядовитым газом, считал последние шиллинги, терял всех друзей до единого, видел, как мою работу портят чужие люди, и портил ее сам, но никогда меня не обуревали такое горе и безысходность, как в те последние месяцы учебы. Говорю я это лишь затем, чтобы вы поняли, какие чувства я испытывал – и продолжаю испытывать – в отношении тех двух лет в Браддерсфорде. Я поднялся на холмы Уэст-Райдинга прямиком из болота.
А помогли мне из него выбраться заботливые руки дяди Майлса, единственного брата моей матери, и его жены, тети Хильды. Своих детей у них не было, и меня они любили так же сильно, как я их. Мы договорились, что после окончания учебы я приеду жить в Браддерсфорд, где, разумеется, я уже не раз бывал. Если позднее я все-таки захочу поступить в Кембридж, они об этом позаботятся (им пришлось бы почти целиком оплатить мое образование, поскольку наследство мне досталось весьма скромное). Однако я заверил их, что поступать никуда не хочу и учеба больше меня не интересует. А вот чего мне по-настоящему хотелось, так это писать, но я пока не знал, что именно. Большую часть времени я только воображал, как буду писателем – неким абстрактным тружеником пера, – вместо того чтобы всерьез задуматься о своем призвании. Это простительно для юноши и губительно для взрослого человека. Раз или два я намекнул дяде с тетей о своей мечте, и те в ответ разумно заметили, что при всем желании не смогут сделать из меня писателя – это под силу лишь мне самому. А тем временем, раз уж я не хочу поступать в университет, почему бы не заняться чем-нибудь полезным и не подзаработать денег? В конечном итоге было решено: после праздников дядя Майлс попробует подыскать мне какую-нибудь работу в области производства или торговли шерстью. Так я попал в Браддерсфорд, где вскоре устроился в «Хавес и компанию» и познакомился с Элингтонами, а также с их окружением, в том числе Малькольмом и Элеонорой Никси.
Дядя с тетей жили в районе Бригг-Террас, молодом и растущем пригороде на севере Браддесфорда, между лаврово-араукариевой роскошью и великолепием особняков Мертон-парка, где жили богатые коммерсанты и владельцы шерстяных фабрик, и длинной мрачной Уэбли-роуд, по которой сродни призракам бродили туда-сюда трамваи. Дом был совсем скромный, но очень уютный. Мне выделили большую спальню в задней его части, где я спал и проводил досуг. В двух книжных шкафчиках поместилась моя небольшая библиотека, и я с достоинством королевского библиотекаря регулярно переставлял с полки на полку томики двух собраний классической литературы – «Библиотеки для всех» издательства «Рэндом хаус» и оксфордской «Мировой классики», а также немногочисленную коллекцию современных произведений. Стены я завесил собственными фотографиями и репродукциями шедевров изобразительного искусства. В углу поместился шумный газовый камин. С чердака я притащил в свою комнату старое дедушкино бюро и два покосившихся кожаных кресла. Так спальня превратилась в гостиную, где я мог бы принимать друга – как только друг найдется. Источниками света служили две злобные калильные сетки, небольшие, зато яркие и словно бы трепещущие от гнева. Помню я и вид из двух моих окон. Одно выходило на довольно унылую панораму задних садов, пыльных зарослей бирючины, бельевых веревок и сваленных в кучу досок на пустыре, а сбоку возвышалась огромная труба Хигденской фабрики – в то время это была самая большая труба самой большой шерстяной фабрики в мире. В другом окне за россыпью крыш виднелся в дымке краешек вересковой пустоши. Разумеется, я был в восторге от своей комнаты, и никакое другое жилье потом не рождало в моей груди столь приятного чувства обладания – хотя мне доводилось жить и в Амальфи, и в Санта-Барбаре. Впрочем, я был молод и непоседлив, поэтому проводил в своей комнате только ночи; самое большое удовольствие я получал просто от осознания, что такая комната у меня есть.








