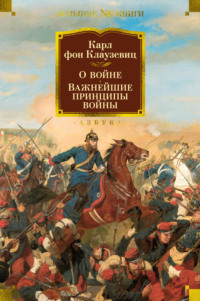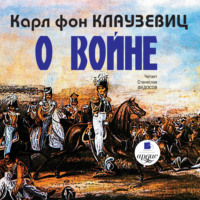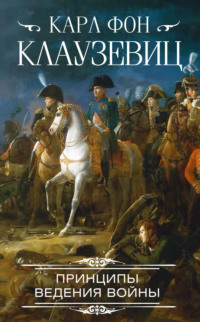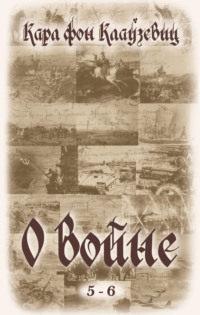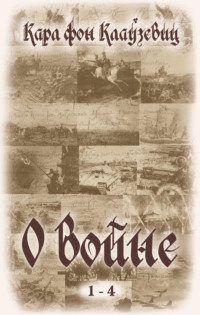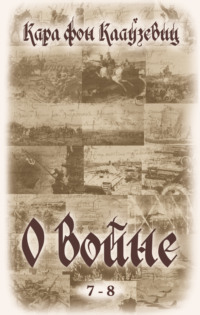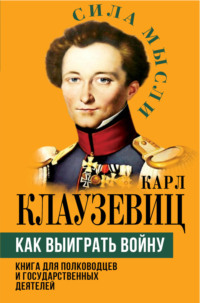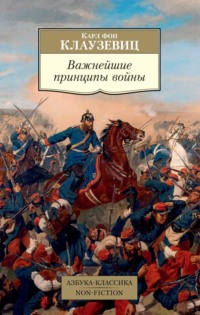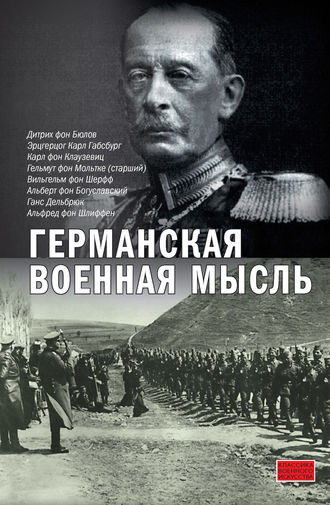
Полная версия
Германская военная мысль
9
Первый раз слово «стратегия», употребленное в приблизительно современном смысле, встречается в труде савойского писателя – Marquis da Silva. Pensees sut la tactique et sur la strategia, – изданном в 1762 г. Однако да Сильва исходил преимущественно из древнегреческих военных писателей, а не из анализа современной действительности. – Прим. ред.
10
Сколько негодования критика XIX в. проявила по поводу этой попытки Бюлова геометрически определить предел успешного наступления. Но в основе сама идея о пределе очень ценна, и Клаузевиц ту же мысль Бюлова, освободив от ее геометрической формы, облек в учение о кульминационном пункте наступления. – Прим. ред.
11
Heinrich Dietrich von Bulow. Militärische und vermischte Schriften. Leipzig. 1853. – Прим. ред.
12
В данном случае Бюлов приводит Шварцбург-Зондерсхаузен и Шварцбург-Рудольштадт как пример формально независимых карликовых имперских княжеств: первое имело площадь 860 км2, второе – 940 км2. – К.З.
13
Данное словосочетание с французского переводится как «смелое предприятие», «внезапная атака», «рейд», в данном случае, скорее всего, оно использовано в качестве военного термина, обозначающего «поиск». – К.З.
14
В XVIII в., таким образом, крепости строились преимущественно для защиты запасов, приготовленных для армии; те же запасы удовлетворяли нужды обороны крепостей в случае их осады. В XX в. железные дороги уже уничтожили потребность армии в нагромождении запасов в пограничной полосе; огромные запасы (у нас на 4–12 месяцев обложения) нагромождались в крепостях уже специально для их гарнизона, возросшего до 50–100 тысяч человек. Попытка оправдать существование сомкнутых крепостей необходимостью защищать железнодорожные узлы и важные переправы не оправдывается современной техникой – условиями обороны крепости и постройки обходных путей. Таким образом, отпадает необходимость в больших сомкнутых крепостях; за долговременными укреплениями остается лишь значение подготовленных позиций, важных лишь в связи с развертыванием наших армий и намеченными операциями. – Прим. ред.
15
Бюлов употребляет в данном случае слово Zweck, которое имеет характерное отличие от слова Ziel, хотя эти оба понятия по-русски объемлются словом «цель»; в данном случае под целью нужно понимать не конечную точку движения, я его смысл, назначение. – Прим. ред.
16
Слово «предмет» здесь надо понимать как сюжет, объект. – Прим. ред.
17
Увы, на практике мы видим удивительные стратегические «вензеля». – Прим. ред.
18
Таким образом, Бюлов, а вслед за ним Виллизен и вся школа, усматривающая сущность стратегии в борьбе за сообщения, центр тяжести переносят на тылы и под операционной линией подразумевают то, что противоположная школа называет собственно коммуникационной линией. Г.А. Леер упорно отказывался выбросить из своего определения операционной линии коммуникационную ее часть (последнее разграничение сделано, например, Н.П. Михневичем), но центр тяжести его операционной линии лежал уже не позади, а впереди армии. – Прим. ред.
19
Это утверждение свидетельствует о недостаточно широком значении, придаваемом геометрическим толкованием Бюлова понятию операционной линии, что было отмечено еще Жомини. Понятие операционной линии плодотворно, лишь будучи поставлено в связь с замыслом операции. Армия, находящаяся у магазина, по отношению к двум концентрически подходящим к ней неприятельским армиям, окажется располагающей внутренними операционными линиями. – Прим. ред.
20
Бюлов обращает внимание на меньшую зависимость римских армий от снабжения по сравнению с современными, вследствие гораздо меньшего числа лошадей в них, отсутствия артиллерии и необходимости везти с собой грузные огнестрельные припасы. Римляне бивакировали в четырехугольных укрепленных лагерях, где среди войск размещался и их магазин, и, таким образом, были гораздо более независимы от путей подвоза. – Прим. ред.
21
У Ллойда (см.: Стратегия в трудах военных классиков. Т. 1. М., 1924. С. 44) также приведен пример наступления на Лондон; исходя из необходимости неприятелю базироваться, Ллойд пришел к успокоительному для англичан заявлению. Бюлов, допуская возможность развития десантной операции в стиле кавалерийского налета, далеко уходит от всякого педантизма. – Прим. ред.
22
Одно из существенных преимуществ нашей огромной территории – это та возможность широкого базирования, которая ложится в основу учения Бюлова. Последний в конце своего стратегического исследования приходит к выводу, что уже по недостатку широкой базы малое государство существовать не может и должно будет уступить место большому (здесь Бюлов видел стратегическую предпосылку объединения Германии). Особенно резко проявились условия базирования в Восточную войну, когда союзники, высадившиеся в Крыму, боялись отойти на десяток верст от побережья, чтобы не потерять сообщений с Балаклавой, и должны были заняться долблением Севастополя, отказавшись от каких-либо полевых маневров. Точно так же в Гражданскую войну Врангель на Таврическом полуострове имел совершенно недостаточную по ширине базу для наступательных действий, был вынужден к северу от Перекопа действовать по расходящимся операционным линиям, и над белыми войсками сразу же нависла опасность катастрофы; операция конца октября – начала ноября 1920 г. являлась только реализацией создавшегося положения. Таковые же стратегические судьбы, по-видимому, ждут всякую десантную экспедицию на наш берег. – Прим. ред.
23
Учение о стратегических и тактических ключах держалось упорно свыше ста лет. Бюлов был совершенно прав в данном случае, образным выражением подчеркивая необходимость выделения главной цели от второстепенной. Впоследствии стали требовать розыска на каждой позиции ее тактического и стратегического ключа. Термин привел к таким злоупотреблениям, что надо приветствовать исчезновение его из военного обихода. – Прим. ред.
24
Русское наступление осенью 1914 г., имевшее объекты в Восточной Пруссии, Познани и Силезии, в Галиции и Карпатах, предпринятое без подавляющего превосходства сил, представляет тип операций, подходящий под приведенную классификацию Бюлова. Русские армии действительно образовали стену и для отражения неприятельских ударов были вынуждены перебрасывать резервы с одного фланга на другой. В этих перебросках наступательная энергия русских войск распылилась и захлестнулась, и уже в ноябре мы были вынуждены осознать, что мы не наступаем, а обороняемся. – Прим. ред.
25
В основе всех выводов Бюлова лежит ясное предпочтение принципа базирования принципу массирования, вытекающее из скромной роли, отводимой им бою. Это было верно в отношении XVIII в., и во многом верно и для настоящего времени, но являлось ошибочным для Наполеоновской эпохи. Если стать на противоположную Бюлову точку зрения о сосредоточении всех сил в решительный момент на решительной точке, как это сделал Жомини, то все положения Бюлова о базировании получат совершенно обратный смысл: внутренние линии выгоднее наружных, одна операционная линия выгоднее нескольких, узкая база, позволяющая не разбрасывать войска для ее защиты, выгоднее широкой, отступать следует не эксцентрически, а концентрически и т. д. Решающее значение имеет размер масс, степень зависимости от подвозимого с тыла снабжения, более или менее затяжной характер боевых столкновений. Эволюция военного искусства как бы направляется в сторону, оправдывающую учение Бюлова. – Прим. ред.
26
Таково, например, было положение русских армий в польских губерниях, охваченных с одной стороны Восточной Пруссией, а с другой – Галицией. При серьезных наступательных операциях австро-германцев положение русских армий являлось здесь стратегически невыносимым. Отсюда стремления В.А. Сухомлинова в 1910 г. отнести назад наше сосредоточение на Неман и Буг, что вызвало такой переполох во Франции. Отсюда стремление русского командования первоначальными объектами избрать оконечности неприятельского базиса – Восточную Пруссию и Восточную Галицию, чтобы поставить первой задачей войны выпрямление нашего фронта на нижней Висле; требование французского генерального штаба начать немедленно наступление на Познань явно противоречило основным положениям стратегии. – Прим. ред.
27
Такой невыгодный случай представляло в 1916 г. очертание Валахии, которая была охвачена с севера Трансильванией и с юга – Болгарией. Действительно, единственным возможным методом оперирования румын было наступление в стороны и вперед – из Добруджи в Болгарию и из Молдавии и Валахии – в Трансильванию. Неуспех этих наступательных попыток, в сущности, определил уже судьбу Валахии, и Э. Людендоф мастерски реализовал создавшиеся для немцев плюсы зимним походом, изумившим широкие массы своей кажущейся дерзостью. – Прим. ред.
28
Это была бы теория «Канн» Ф. Шлиффена, если бы Бюлов имел в виду действительное уничтожение, окружение, сокрушение неприятельской армии, а не устройство только очень угрожающей диверсии; но вместо уничтожения неприятеля Бюлов думает лишь о том, как вынудить его к отступлению. В отношении этой бескровности учение Бюлова является плодом XVIII в.; насилию оно не дает достаточного простора. – Прим. ред.
29
Бюлов полагал, что ввиду отсутствия в армиях древности огнестрельного оружия и отсутствия необходимости подвоза боевых запасов древние могли оперировать в несравненно меньшей зависимости от своих сообщений, чем современные армии. – Прим. ред.
30
Бюлов делал заключения по революционным сражениям (1792–1795), которые действительно давали результат при потерях в 5–10 раз меньших, чем сражения Фридриха Великого; молодые войска республики не выдерживали тех 30–50?? убитых и раненых, коими устилали поле сражения дисциплинированные батальоны Семилетней войны. Но как только явился Наполеон (1796), сражения сейчас же перестали быть маневрами, и удары, наносимые Наполеоном, были совсем не такого порядка, чтобы после них сейчас же думать об охвате противника. Мысли Бюлова об эксцентрическом отступлении получили большое распространение и, между прочим, легли в основу нашего плана войны в 1812 г. (деление русских войск на две армии, причем та из них, на которую бросится Наполеон, отходит, а другая выдвигается на сообщения французов). – Прим. ред.
31
Просветительная гуманистическая философия XVIII в. сбивает мысль Бюлова с правильного пути. Следовало бы изложить это заключение так: крупный стратегический успех дает лишь разгром неприятельской системы снабжения, связи, управления, снабжающих его дорожных артерий. Чисто фронтальный прорыв лишь при необыкновенной мощи может проникнуть так далеко, чтобы развалить весь механизм неприятельского тыла, без повреждения коего неприятель сейчас же залечит свои мелкие, исключительно тактические раны. Отсюда решающее значение получают операции, ведущиеся в охват или обход неприятельской армии и приводящие нас скорейшим путем к положению, позволяющему взять противника за горло. И, взяв за горло, надо реализовать свой успех, задушив противника – развив операцию до полного сокрушения неприятельской армии. – Прим. ред.
32
Таким образом, Бюлов является тем источником, откуда далее развилась теория фланговых позиций. Клаузевиц принимал ее, но с той оговоркой, что фланговая позиция не должна оставаться кулаком, занесенным в воздухе для удара; важна не угроза, важна сама реализация флангового удара из этой позиции. – Прим. ред.
33
Мысль Бюлова понимается нами так: «Тактика непосредственно нацеливается на врага, а стратегия видит лишь конечную цель в победе над ним и выдвигает ближайшие цели и помимо неприятельских войск». – Прим. ред.
34
Т. е. движение и расположение на месте. – Прим. ред.
35
Мы привели этот тактический отрывок, представляющий итог длинного исследования Бюлова об эволюции тактики в период революционных войн, так как он весьма характерен. Многие тактические замечания Бюлова были очень ценны в свое время, так как впервые отражали в научной мысли тактический переворот, происходивший в эпоху революции. Типично для Бюлова, что исследование боя он непременно заканчивал вопросом об отступлении; на использовании победы, на преследовании мысль Бюлова вовсе не останавливается, так как он переносит центр тяжести на маневрирование, а бой в корне, по его мысли, близок к недоразумению.
По Бюлову, в головах всех военных твердо засело убеждение в превосходстве огня; а раз так, то безразлично – верное оно или фальшивое, оно является руководящим. Возвращение к старым приемам натиска холодным оружием невозможно. Дифирамбы штыку поются кабинетными историками, серьезно верящими чепухе, которая пишется в реляциях, и вводящими в заблуждение штатских людей. – Прим. ред.
36
Современному читателю тон рассуждений Бюлова покажется, может быть, слишком наивным; однако за этой главой Бюлова надо признать особенно крупное положительное значение. Бюлов здесь впервые учел все значение масс, выступивших на историческую арену с Французской революцией, и противопоставил их господствовавшему в XVII и XVIII вв. учению о ничтожности массы и решительном превосходстве кучки искусных профессионалов. Последнюю идею в виде мечты мы еще находим в пророчестве фон дер Гольца о новом Александре Македонском, который с небольшой испытанной дружиной погонит полчища переодетых в солдатскую форму мещан. Здесь же Бюлов переносит центр тяжести на значение материальных средств войны. Если Беренхорст становился в тупик перед успехами революционных армий, то Бюлов здесь дает им объяснение. Конечно, многое он упустил, например моральные силы революции, преуменьшил значение боя, но в основном он стоит на твердой почве. Идеи о силе массы от Бюлова перешли в XIX в. к защитникам идеи милиции и коротких сроков службы – создалась обширная демократическая школа, родоначальником коей является Бюлов. – Прим. ред.
37
Ссылка Бюлова на Монтекукколи, которую повторяли за ним тысячи писателей и ораторов, неверна. Выражение, что для войны нужны только деньги, деньги и деньги, появилось за столетие до Монтекукколи, среди вождей испанских наемников, в эпоху первоначального накопления капитала в первой половине XVI в.; Монтекукколи в своих трудах приводит это выражение лишь с глубокой иронией, так как он был проводником идей войск нового строя, постоянной армии, длительной и тщательной подготовки к войне и недоумевал над утверждением, что при отсутствии длительной работы над армией можно, раскошелившись вдруг, думать о выигрыше войны. – Прим. ред.
38
Бюлов, создатель стратегии, привил в немецком языке термин «стратегическое развертывание», так как в основе у него была мысль о стратегическом охвате неприятеля на театре военных действий. Наполеон и Жомини, на коих покоится стратегическая мысль во Франции, исходя из массирования сил, как основной посылки, пришли к терминам «сбор», «стратегическое сосредоточение». В этих противоположных терминах для обозначения одного и того же действия отражается все мировоззрение двух школ. – Прим. ред.
39
Решительный удар крепостям нанесла не столько тяжелая артиллерия, сколько железная дорога, позволившая отказаться перед войной от заблаговременного нагромождения запасов на границе. Задача инженерной подготовки теперь другая – обеспечить за нами возможность развертывания армии на широком фронте вблизи границы. Нужны укрепленные позиции, а не сомкнутые кольцевые крепости, так как войска будут маневрировать; они не привязаны, как прежние магазины, к одному пункту. – Прим. ред.
40
Эти отрывки заимствованы из «Истории кампании 1805 г.» фон Бюлова. Первый отрывок имеет в виду австрийскую дипломатию, поддавшуюся увещеваниям Англии и втянувшую Австрию в войну вопреки мнению ее лучшего полководца, эрцгерцога Карла. Второй отрывок накануне Йены стремится доказать немцам всю иллюзорность надежд на русскую помощь в борьбе с Наполеоном. Здесь, по-видимому, Бюлов уже отходит от бескровных идей XVIII в. и ясно схватывает очертания наполеоновской политики и стратегии сокрушения. Он указывает на очень тесную связь политики и стратегии. За эту-то «историю» Бюлов и поплатился жизнью. – Прим. ред.
41
Отцом Аттилы был Мундзук, происходивший из царского рода гуннов; по одной из теорий (не имеющих, впрочем, достаточного подтверждения), гунны были одним из калмыцких племен. – К.З.