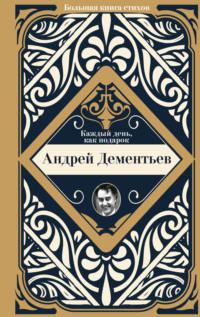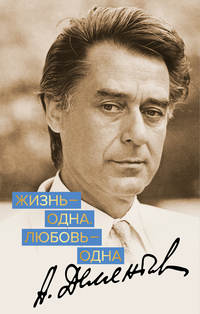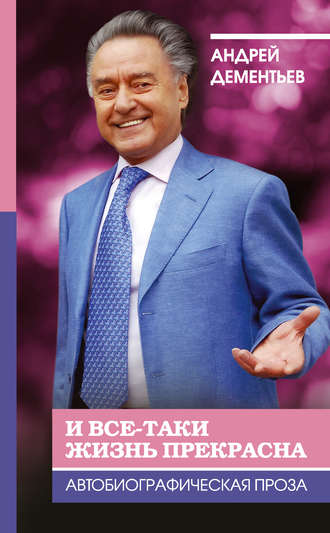
Полная версия
И все-таки жизнь прекрасна
Наровчатов выделил меня из большой группы начинающих авторов и посоветовал поступать в Литинститут. Честно сказать, я был несказанно обрадован и горд. Литературный институт для меня в те годы казался недосягаемым Олимпом. Но я поверил своему наставнику и поехал с документами и стихами в Москву. Сергей Сергеевич дал мне телефон поэта Михаила Луконина, очень известного в послевоенные годы, с которым, как я понял, они дружили. И сказал, что Луконин ждет моего звонка. Мы встретились с Михаилом Кузьмичом в сквере перед Литературным институтом. Он прочел 13 моих стихотворений и тут же написал рекомендацию. Среди стихов было одно, посвященное классику отечественной поэзии XVIII века Гавриле Романовичу Державину, которое особо заинтересовало моего нового наставника. Он попенял мне, что я не «обыграл» в стихах тот факт из биографии Державина, что будущий поэт родился недоношенным и его несколько недель выхаживали в хлебной опаре… «Запомните на будущее, – сказал мне тогда Луконин, – поэзия очень любит факты, художественные детали, которые в сюжетных стихах могут играть особую роль».
Я расстался с Лукониным окрыленным. Но впереди предстоял творческий конкурс. Заочный. Документы приняли, приемные экзамены я сдал, творческий конкурс (15 поэтических фигур на одно место) выдержал. Но вдруг выяснилось, что на первый курс мне нельзя, ибо я выпускник другого вуза, а для зачисления на третий или четвертый нужно согласие ректора пединститута на мое отчисление. Тогдашний тверской ректор П. П. Полянский меня не отпустил.
Конечно, мне было очень обидно. Но я решил не отступать перед всеми этими формальностями, которые могли убить мою многолетнюю мечту. И поехал в Министерство высшего образования добиваться правды. Все оказалось значительно сложнее. Тогдашний заместитель министра (фамилию его я запомнил на всю жизнь – Афанасьев) тут же подписал мне бумагу, по которой я мог быть переведен из Калининского института в Литературный, но, узнав, что я студент четвертого курса, попросил меня привезти ему официальное согласие Полянского. Оказывается, для подобных случаев было специальное распоряжение министра. А потому нужную мне бумагу Афанасьев оставил у себя. На другой день я опять явился пред грозны очи тверского ректора. И снова Полянский не дал согласия на мое отчисление из пединститута. Я был в отчаянии. Еще бы! Экзамены сданы, творческий конкурс преодолен, а студентом желаемого вуза я стать не мог.
До начала занятий оставалось всего несколько дней. Ректор Литературного института Василий Семенович Сидорин пообещал, что как только будет разрешение министерства, меня зачислят на третий курс. Я мотался ночными поездами из Калинина в Москву и обратно (электричек на этом направлении тогда не было, и дорога в один конец занимала пять-шесть часов) и с утра уже сидел в приемной Афанасьева. Его секретарша, глядя на мой измученный вид и сочувствуя моему отчаянию, пропускала меня к шефу без очереди. К счастью, он оказался приятелем проректора тверского института, к которому я по его совету и отправился. И тот подписал мое заявление. Полянский узнал о нашей «авантюре», но сделать уже ничего не мог, потому что в паспорте у меня появился штамп об отчислении студента Дементьева с четвертого курса вверенного ему вуза.
И опять я Москве. Афанасьев радостно вручил мне свою резолюцию – «Перевести…» «Талантам надо помогать», – сказал он мне на прощание. Я поехал в Калинин собирать вещи и поздно вечером 31 августа 1949 года явился на Тверской бульвар, 25 в надежде застать Сидорина и отдать ему все документы. Мне повезло. Он оказался на месте и очень удивился моему столь позднему визиту. Но тут же подписал приказ о моем зачислении на третий курс. И вот я студент единственного в мире Литературного института имени А. М. Горького при Союзе писателей СССР.
В маленьких аудиториях, где занималось по 25–30 прозаиков и поэтов, сидели нынешние классики – Расул Гамзатов, Юрий Бондарев, Григорий Бакланов, Юрий Трифонов, Константин Ваншенкин, Юлия Друнина… Еще совсем молодые, хотя прошли фронт. А мы, приехавшие сюда из школы или, как я, из студенческих будней, были моложе их на Великую Отечественную. Но все были на «ты», потому что пока перед ее Величеством Литературой каждый из нас не имел преимуществ.
Я попал в семинар Михаила Луконина, который, как я уже писал выше, дал мне рекомендацию для поступления в Литинститут и потому особенно внимательно относился к моему творчеству. В этом же семинаре занимались Юля Друнина, Володя Соколов, Сергей Орлов. К моменту прихода Михаила Кузьмича в Литературный институт ему только что исполнилось тридцать лет. Несмотря на свой простецкий вид и постоянное добродушие, Луконин был человеком очень интеллигентным и образованным. Ко всем студентам, исключая фронтовиков, с кем его связывала недавняя военная пора, обращался на «вы». Стихи его пользовались широкой известностью, особенно фронтовые. Мы все знали тогда его крылатые строки:
В этом зареве ветровомВыбор был небольшой,Но лучше прийти с пустым рукавом,Чем с пустой душой.В том же 1949 году он опубликовал поэму «Рабочий день», за которую получил Сталинскую премию. Тогда это было знаком высшего признания. Но Михаил Кузьмич не выпячивал себя в литературной среде, был внимателен и уважителен к своим коллегам… А скольким молодым он помог выйти на широкую дорогу поэзии!
И потом, когда Луконин ушел из института, нашим семинаром стал руководить Евгений Аронович Долматовский. В отличие от Михаила Кузьмича, он строго проводил обсуждения наших творений. Долматовский был больше педагог, чем поэт на наших занятиях. Луконин увлекал своей непосредственностью и лирическим азартом. И обоих я вспоминаю с благодарностью и печалью…
Особым вниманием у нас пользовался семинар по творчеству А. С. Пушкина, который вел замечательный человек и крупный ученый Сергей Михайлович Бонди, известный тем, что сумел прочесть все рукописи Александра Сергеевича, которые долгие годы не были прочитаны из-за неразборчивого почерка великого поэта. Однажды Бонди ушел из института прямо с экзаменов, когда кто-то из студентов назвал при нем лицейские стихи Пушкина слабыми. И не появлялся до тех пор, пока виновный не закончил институт и не уехал в свою родную вотчину. Но это из давних студенческих легенд, а в наши времена Сергей Михайлович аккуратно приходил на занятия и так интересно рассказывал о жизни и творчестве Пушкина, что все мы сидели на его лекциях как завороженные.
Помню, как в институтской стенгазете я поместил стихотворение «Болдинская осень», написанное к 150-летию Пушкина. Сергей Михайлович прочел его при мне, когда мы стояли у только что вывешенного листка, и сказал несколько добрых слов. Я был счастлив. «Сам Бонди оценил…»
Я мало писал в те годы. Наверстывал упущенное – ходил по театрам, зачитывался современной поэзией, журналами, много занимался, слушал лекции мастеров – К. Симонова, А. Твардовского, И. Эренбурга, М. Исаковского, С. Маршака… Бывал на всех литературных вечерах. И постоянно влюблялся – то в юных москвичек, то в красивых землячек. А еще самозабвенно дружил. И самыми близкими друзьями в студенческие времена стали мои сверстники – поэты из Грузии, Абхазии, Азербайджана и Армении. Они учили меня ценить дружбу, разбираться в винах, любить море и «вешать лапшу» на уши профессорам, когда доставался плохой билет на экзаменах.
Отар Куправа, Наби Хазри, Ваагн Каренц, Костя Ломиа, Алеша Ласуриа, Иса Гусейнов – замечательные имена послевоенной многонациональной литературы. Многих уже нет среди нас…
А тогда мы все были молоды, веселы, талантливы и беззаботны. Институт не готовил из нас писателей. Просто нам создали благоприятную обстановку и среду, чтобы поощрить талант, помочь в творчестве и воспитать художественный вкус. Все остальное зависело от нас самих.
Некоторые спохватывались, что выбрали не тот вуз, и уходили. Или просто их переводили в другие институты.
Я тоже боялся быть исключенным. Но по другой причине. Дело в том, что вся моя большая семья была репрессирована. Как я уже рассказывал, дед погиб в лагере. Отец сидел по 58-й статье, два его брата не вернулись из тюрем, два других отсидели свое. Правда, их всех потом реабилитировали. Но тогда еще страной управлял Сталин. И дети отвечали за своих отцов. А я при поступлении скрыл эти факты, потому что уже дважды мне возвращали документы из приемных комиссий, когда я честно писал о родственниках. Причем отец же мне и посоветовал ничего не сообщать, зная, что я уже не однажды обжигался.
В то время общежитие наше располагалось в Переделкине. Я обосновался с однокурсниками на бывшей даче Маршака. Каждое утро мы ездили электричкой на занятия и вечером возвращались обратно. На дорогу уходило много времени. Столовой у нас не было. Билеты мы покупали за свои деньги, которых у студентов и без того не хватало. В общем, условия были неважные. И тогда мы написали письмо Сталину, в котором просили как-то изменить наш быт. Вместе с нами учились и ребята из других стран – из Греции, Албании, Кореи, Болгарии, Чехословакии, Польши… Они тоже подписали это письмо. И грянул скандал. Письмо перехватили, передали в партком института. На срочном партийном собрании начальство призвало к ответу зачинщиков. А я был среди них. Александр Трифонович Твардовский, который шефствовал над нашим институтом, как секретарь Союза писателей, поддержал нас. Поддержали и многие преподаватели. Особенно фронтовики. Секретарь парткома писатель В. Смирнов подал в отставку. Письмо отнесли в Кремль. Вскоре все в нашей жизни изменилось. За нами закрепили автобус, Литфонд оплачивал проезд. В Переделкине появилась студенческая столовая, где студенты получали бесплатно и завтрак, и ужин. Мы воспряли.
Жили мы весело. На переделкинской лужайке, которую обозвали Неясной поляной, по выходным все играли в футбол. Высоченный Роберт Рождественский стоял в защите. Пройти его было невозможно без опасности что-нибудь сломать. А петербургский писатель Борис Никольский охранял ворота. Грузинский поэт Отар Куправа считался лучшим нападающим…
Помню, как на избирательном участке, что располагался в нашем институте, пробираясь к столу, чтобы проголосовать за очередного кандидата в Верховный Совет, мой однокурсник выкрикнул свое имя и фамилию пожилой активистке – «Салам Кадыр-заде Дадаш оглы…» В ответ она раздраженно сказала: «Представляйтесь, пожалуйста, по одному…» С ним же произошла и другая смешная история. В день приезда в Москву он назначил свидание какой-то девушке, видимо, тоже приезжей. «А где?» – спросила она. «В московском метро», – пояснил Салам. И только потом увидел, что на каждой станции написано – Московское метро.
Однажды с Отари мы поехали ко мне в гости в Калинин. Билеты мы, естественно, не брали. Дорого. По дороге контролеры нас высадили на маленькой станции под романтическим названием «Березки». Мы разожгли в лесу костер и три часа до следующего поезда читали друг другу стихи. Звучала то русская, то грузинская речь… Светила луна и догорали ветки в костре. Может быть, именно в тот осенний вечер я почувствовал, как талантлив мой друг… И когда на другой день мы покидали наш дом, Отари произнес шуточный тост – «За временную ликвидацию». Отец спросил, что, мол, это значит. Блеснув своей белозубой улыбкой, гость сказал: «Это значит только одно – мы вернемся».
Но вместе нам вернуться не удалось… Через несколько лет мой друг ушел из жизни. А еще раньше – замечательный абхазский писатель Алексей Ласуриа, с которым мы сидели в аудитории за одним столом, скончался от инфаркта. Когда я приехал в Сухуми и пришел на кладбище почтить память своих друзей, вспомнилась наша далекая юность, Литературный институт и веселая наивность поэтов…
Мы очень нежно дружили в Литинституте. И самым близким другом для меня в те годы был Отари Куправа – веселый, остроумный и добрый парень. Учился он, правда, неровно, потому что на лекциях писал бесконечные подстрочники своих стихов для перевода их на русский язык. И много времени посвящал всяким увлечениям – кино, литературным вечерам и любовным свиданиям. Помню, как-то перед весенней сессией он неожиданно предложил: «Давай эстетику сдадим досрочно. Каникулы продлим… И потом, это психологически точно. Если студенты намерены сдать экзамен досрочно, профессор подумает, что мы прекрасно знаем предмет. И ему будет приятно, и нам хорошо…» А надо сказать, что этот курс нам читал очень известный тогда профессор Асмус, который был демократичен и не зверствовал на экзаменах. Мы договорились и поехали к нему домой. Он жил одиноко в небольшом двухэтажном особняке, построенном после войны «фашистскими оккупантами», то бишь пленными немцами. Помню, в кабинете у него стоял большой телескоп и фортепьяно. Отари сразу обратил внимание на юную пышную домработницу, которая принесла нам чай, и поначалу отвлекся от билета. Я отвечал первый и получил четверку.
Но когда подошла очередь Отари, я понял по его лицу, что вытянутый им билет ничего общего со вчерашним оптимизмом не имеет. Он начал что-то очень невнятно говорить, а потом вдруг сказал Асмусу: «Простите, профессор, я очень плохо знаю русский язык, можно я буду отвечать по-грузински?» Хозяин кабинета добродушно рассмеялся и, взяв у Отари зачетку, поставил ему удовлетворительную оценку.
Когда мы вышли на улицу, мой друг радостно подтолкнул меня: «Ну, что я тебе говорил?»
Однажды мы с Отари подрались. В доме, что выходил окнами на Тверской бульвар, жила его сестра Мзеона со своим мужем. Наш институт располагался рядом, и мы нередко после лекций приходили к ним в гости. Как-то хозяева уехали на несколько дней в Сухуми, и Отари переселился в квартиру сестры. Помню, я зашел к нему и застал у него нашу общую знакомую Люду – русскую красивую девушку, за которой Отари активно ухаживал. Она ему очень нравилась. Думаю, что и он ей. И началось грузинское застолье – с тостами, с кавказским вином… Немного захмелев, Отари вдруг не очень любезно обратился к своей гостье и позволил себе нерыцарские выражения. Я его оборвал и предупредил, что он находится в обществе женщины. В тот момент мне показалось особенно обидным, что распоясался он в присутствии русской девушки. «Поди, при грузинке ты бы так не посмел себя вести…» – подумал я. И завелся. И первым ударил своего друга в грудь. Он упал, но тут же поднялся. Когда после его кулака я влетел головой в железную спинку кровати, из глаз у меня посыпались искры… Люда встала между нами. Однако я успел еще раз сильно садануть Отари в солнечное сплетение. Он согнулся и долго не мог выпрямиться, а я отстранил Люду и в ярости покинул поле сражения. В тот же вечер я пошел в театр имени Пушкина, благо он был по соседству, но до сих пор не могу вспомнить, что за спектакль тогда смотрел…
Утром позвонил Отари. Как ни в чем не бывало он сказал мне: «Ты обратил внимания, что вчера ни ты, ни я не ударили друг друга в лицо. Потому что братья… Прости, но я жду тебя в нашем кафе на Тверском…» Ну, как я мог сердиться на него! Я засмеялся и отправился на мужское свидание. Мы помирились. Отари признал, что был не прав, и в моем присутствии попросил прощения у Люды. Но, как я понял, она простила его еще раньше… Больше у нас никогда не было ссор.
Уже много лет спустя, став председателем Государственной экзаменационной комиссии Литинститута, три года ходил я на экзамены, читал дипломные работы выпускников и часто ловил себя на мысли, что не оскудела родная земля талантами. И один из них – ныне редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев – блистательно защитился по теме «Дневники Пришвина».
И сейчас во многих городах России, в странах ближнего и дальнего зарубежья пишут свои книги мои молодые коллеги. Успехов им!
Поэзия приходит поутру
В 1958 году в Смоленске проходил фестиваль молодых поэтов России. Мне посчастливилось попасть в семинар классика отечественной поэзии – Михаила Васильевича Исаковского. За несколько лет до этого события, еще в Литературном институте я слушал его лекции о песенном творчестве. Исаковский тогда был невероятно популярен. Автор знаменитой на весь мир «Катюши», он создал много других замечательных песен – «Летят перелетные птицы», «Враги сожгли родную хату», «В лесу прифронтовом», «Снова замерло все до рассвета», «Вдоль деревни», «Дан приказ: ему на запад», «Огонек».
Мэтр плохо видел, носил темные очки и на первый взгляд казался неприветливым человеком. На самом деле, как я убедился позже, он был очень добр.
Так случилось, что спустя многие годы мы попали с Исаковским в одну больницу. Он тяжело болел. Я приходил к нему в палату и подолгу засиживался. Меня поражали его оптимизм и мужество. Никаких жалоб, ни слова о болезни. Только стихи, воспоминания, желание «поговорить за жизнь», которой у Михаила Васильевича оставалось в обрез. Каждый вечер он ждал меня, узнавал по шагам, потому что уже почти не видел.
Но тогда в Смоленске все было иначе. Мы понемногу знакомились друг с другом. Вторым нашим руководителем оказался мало мне известный писатель Сергей Баруздин. Походкой, сутулостью и усами он походил на Горького. Был очень строг к нам. Почему-то сразу выделил меня, хотя и разругал мою новую книгу, рукопись которой я перед этим сдал в Калининское издательство. Я послал телеграмму, чтобы книгу задержали, и, вернувшись домой, пересоставил ее, добавив новые стихи и выбросив разруганные Баруздиным. Тогда-то и началась моя дружба с будущим редактором одного из лучших журналов «Дружба народов». Мы вместе трудились и отдыхали в Доме творчества «Малеевка», вместе встречали праздники – то в Москве, то у нас в Калинине. Я привозил ему стихи, ездил от журнала в командировки. Очень известный в те годы поэт Ярослав Васильевич Смеляков, который ведал в редакции поэзией, однажды напечатал большую подборку моих стихов, среди которых была «Баллада о матери», ставшая впоследствии известной песней.
И хотя мы долгое время были с Баруздиным на «вы», он очень доверительно строил наши отношения: присылал мне свои книги, хлопотал о санаторной путевке, когда я серьезно заболел, даже приехал в Калинин поговорить с врачами относительно моего лечения в Москве, и часто звонил мне. Приезжая в столицу, я останавливался у Баруздиных дома. Люся – жена Сережи – тонкая умная женщина – поддерживала эту дружбу, потому что чувствовала, как я дорожу нашими отношениями и пытаюсь благотворно влиять на неуравновешенность ее мужа. В то время он сильно выпивал, хотя здоровье у него было не очень крепкое, подорванное еще войной… А я тогда вообще не брал в рот спиртного и старался отвлечь Сергея от вредной привычки. Впрочем, это не очень помогало. Каждый день в обед он брал в Доме литераторов свой неизменный бокал коньяка с апельсиновым соком и вечером неоднократно повторял норму. Однако трудился он много и много издавался. Лучшая его книга «Повторение пройденного» выдержала не одно издание, была выдвинута на Государственную премию СССР и имела большой успех.
Когда в середине 80-х он напечатал в своем журнале роман Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», вся страна узнала Баруздина с другой – редакторской стороны. Он бесстрашно одолел цензуру, принял на себя все удары начальства и продолжал делать прекрасный журнал, где публиковались Булат Окуджава, Андрей Вознесенский и другие «властители дум».
Я очень многим обязан Баруздину. В трудные для меня дни он писал статьи о моих книгах, вместе с Борисом Полевым активно поддержал мою поэму о Валентине Гагановой. Эту поэму так замордовали в Твери доморощенные коллеги, что я попал в больницу с полным истощением нервной системы.
Именно в те черные дни Баруздин понял, что мне надо уезжать из Калинина, и стал всячески хлопотать о моем переезде в Москву. На одном из правительственных приемов в Кремле он встретился с моим земляком Сергеем Павловым – первым секретарем ЦК ВЛКСМ и договорился, чтобы меня взяли на работу в аппарат ЦК. А возраст к тому времени у меня был далеко не комсомольский. Однако я переехал. Проговорив со мной полтора часа, Павлов не обратил внимания на анкету, а мой внешний вид, спортивная форма, видимо, ввели его в заблуждение. Потому что незадолго до этого он издал распоряжение не брать никого на работу в ЦК старше тридцати лет. Мне тогда было тридцать девять.
Я еще жил в Калинине, когда Сережа Баруздин позвонил мне и, захлебываясь от рыданий, сказал, что очень больна Света, их единственная дочь.
Я поспешил в Москву. В тот вечер у нас на глазах у нее случился припадок эпилепсии – неожиданный для всех, страшный. Веселая, красивая девочка стала жить под страхом своей болезни, боясь автобусов, метро, боясь одиночества, когда в любую минуту могла оказаться без сознания. «За что, за что?» – не сдерживая себя, плакал Сережа, сидя у постели побледневшей измученной дочери. Думаю, что эта беда намного сократила его годы. Он очень любил Светлану.
Но первой умерла Люся – Сережина жена, умерла от рака. Она мужественно переносила все страдания, которые выпали на ее долю. Сергей держался. Старался не пить. Много работал. «Как все призрачно на этом свете», – словно в полузабытьи повторял он, печально глядя на фотографии своих близких… Сейчас никого уже нет – ни Сережи, ни Люси, ни Светки с Алешей из той далекой и дорогой мне поры нашей жизни. И только книги Баруздина и фотоальбом хранят память о моих друзьях.
Как мало тогда нам исполнилось лет
В июне 1969 года на бюро ЦК ВЛКСМ меня утвердили заместителем заведующего отделом пропаганды. Я понемногу входил в дела. Провел Всесоюзное совещание редакторов комсомольских газет и журналов. Поближе познакомился со своими молодыми коллегами, окунулся в журналистские будни. Много читал местной прессы. Работать было интересно, но раздражал комсомольский бюрократизм, заимствованный из партийных органов. И я нарушал эти замшелые каноны. Помню, как при утверждении на секретариате журналистских кадров, где мне по долгу службы приходилось их представлять, я донельзя сократил процедуру и решил не зачитывать все анкетные данные кандидатов, как было принято. Представляя как-то привлекательную и пышнотелую девушку на должность заведующей отделом журнала «Вокруг света», я не назвал год ее рождения, полагая, что для прекрасного пола это не обязательно. И вообще не стал читать анкету. «Все данные прилагаются», – сказал я в конце, когда девушка встала со своего места и секретари наглядно убедились, что эти «данные» действительно при ней… Причем столько было молодого задора и артистизма в поворотах красивой фигуры, что все мои коллеги согласно заулыбались. И только первый секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Михайлович Тяжельников укоризненно покачал головой и строго посмотрел в мою сторону. Но с этого дня утверждение кадров проходило по моей схеме – коротко и без лишних анкетных подробностей. Случались у меня и другие курьезы. Однажды в день рождения А. М. Горького я «послал» всех секретарей ЦК ВЛКСМ возлагать венок к его памятнику у Белорусского вокзала, когда надо было венок возложить к могиле писателя у кремлевской стены, как это сделали члены Политбюро ЦК КПСС. А комсомол, как известно, во всем копировал партию, и нарушение этикета осуждалось в верхах. Но мне как-то все сходило с рук.
Помню, на обсуждении журнала «Молодая гвардия» я резко выступил против националистических тенденций в некоторых публикациях этого популярного комсомольского издания, что привело в конечном счете к смене его руководства. А накануне с этим журналом произошел неожиданный курьез. Мне позвонил заведующий общим отделом ЦК и попросил срочно зайти.
– Тебя ждет шеф… Неприятный разговор будет…
Я вошел в просторный кабинет Евгения Михайловича. Он ждал меня, стоя в дверях и держа в руках журнал «Молодая гвардия».
– Вот принесли из нашей библиотеки. Я не против критики, Андрей Дмитриевич… Но так же нельзя… Видно, кто-то из ваших коллег постарался…
И он протянул мне номер «Молодой гвардии» с его статьей. Я стал листать. И сразу бросились в глаза смешные пометки карандашом: «Ну и ну!», «Вот те раз!», «Этого быть не может», «Ух ты!», «Как бы не так!» – Я читал озорные восклицания, очень хорошо понимая обиду автора, который опубликовал серьезную и, кстати сказать, хорошо написанную статью… Но Тяжельников смотрел на меня так, словно злополучные пометки принадлежали мне. Я понял его немой упрек и неожиданно для самого себя рассмеялся. Шеф еще больше помрачнел. Я тут же объяснился: «Это писал кто-то из посторонних. Ведь в библиотеку приходят разные люди… Мои ребята такого себе не позволят. Не обращайте внимания, Евгений Михайлович. Мало ли на свете идиотов…»
Он недоверчиво взглянул на меня. Надо сказать, что наш первый секретарь до прихода в ЦК работал ректором педагогического института и к слову относился очень серьезно. Естественно, его авторское самолюбие было ущемлено самой формой критики. Он не привык к словесной развязности…
А через несколько дней я узнал, кто был автор тех мальчишеских пометок. К моему удивлению, им оказался редактор одного детского журнала. Я ему сказал все, что думал по поводу его «творчества», но авторство обещал сохранить в тайне, потому что он мог иметь большие неприятности за свое легкомыслие.