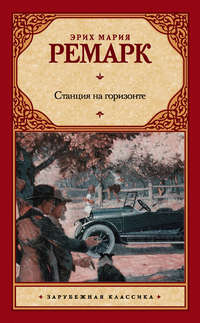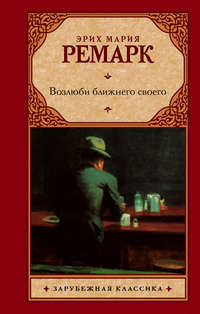Полная версия
Земля обетованная. Последняя остановка. Последний акт (сборник)
– Еще как.
– Магазин стоит на месте, зато улица движется беспрерывно, – продолжал Силвер. – Чистое кино. Тут всегда что-нибудь случается. Нам это занятие куда милей, чем защищать негодяев и вымогать согласия на разводы. Да оно и приличнее. Вы не находите?
– Безусловно, – откликнулся я, втайне дивясь адвокату, который считает торговлю искусством куда более честным ремеслом, чем право.
Силвер кивнул.
– У нас в семье я оптимист. Я Близнец по гороскопу. А брат пессимист. Он типичный Рак. Магазином мы владеем вместе. Поэтому я еще должен посоветоваться с ним. Вы согласны?
– Как я могу не согласиться, господин Силвер?
– Хорошо. Зайдите дня через два, через три. Мы тогда и о бронзе будем знать поточнее. Сколько вы хотите получать за свою работу?
– Столько, чтобы хватало на жизнь.
– В отеле «Ритц»?
– В гостинице «Мираж». Там чуть-чуть дешевле.
– Десять долларов в день вас устроят?
– Двенадцать, – осмелел я. – Я заядлый курильщик.
– Но только на несколько недель, – предупредил Силвер. – Не дольше. В торговом зале нам помощь не нужна. Тут нам-то с братом вдвоем делать нечего. Вот почему в лавочке, как правило, дежурит только кто-то один. Это тоже одна из причин, по которой мы за это взялись: мы хотим зарабатывать, а не урабатываться насмерть. Я прав?
– Конечно.
– Даже странно, как хорошо мы понимаем друг друга. А ведь почти не знакомы.
Я не стал объяснять Силверу, что, когда одна из сторон только поддакивает, взаимопонимание дается удивительно легко. В магазин зашла дама с перьями на шляпе. Она вся шуршала. Видимо, на ней было сразу несколько шелковых нижних юбок. Юбки шелестели и похрустывали. Дама была сильно накрашена и весьма овальных очертаний. Этакий пожилой постельный зайка с пудинговым лицом.
– У вас есть венецианская мебель? – поинтересовалась дама.
– Разумеется, и притом самая лучшая, – заверил ее Силвер, тайком давая мне знак удалиться. – До свиданья, граф Орсини, – обратился он ко мне чуть громче обычного. – Завтра утром мы доставим вам мебель.
– Но не раньше одиннадцати, – предупредил я. – От одиннадцати до полудня в «Ритц». Au revoir, mon cher.
– Au revoir[20], – ответил Силвер с сильным акцентом. – В одиннадцать тридцать, как часы.
– Хватит! – не выдержал Роберт Хирш. – Хватит с нас! Ты не возражаешь?
Он выключил телевизор. Самоуверенный диктор с ослепительными зубами и жирным лицом вещал с экрана о событиях в Германии. Мы о них уже слышали по двум другим программам. Самодовольный, сытый голос стал затихать, а изумленное лицо провалилось в темноту, накатившую от краев экрана к центру.
– Слава Богу! – выдохнул Хирш. – Главное достоинство этих ящиков в том, что их всегда можно выключить.
– Радио лучше, – заметил я. – Там, по крайней мере, не видишь диктора.
– Ты хочешь послушать радио?
Я покачал головой.
– Уже ни к чему, Роберт. Все сорвалось. Не воспламенилось. Это была не революция.
– Это был путч. Военными затеянный, военными подавленный. – Хирш смотрел на меня своим светлым, полным холодного отчаяния взглядом. – Это был мятеж в своем кругу, среди специалистов. Они поняли, что война проиграна. Хотели спасти Германию от разгрома. Это был патриотический мятеж, не человеческий.
– Эти вещи нельзя разделять. К тому же это был мятеж не одних военных, там и штатские были.
Хирш помотал головой.
– Можно разделять, еще как можно! Продолжай Гитлер побеждать на всех фронтах, и ничего не случилось бы. Это был не мятеж против режима головорезов – это был мятеж против режима банкротов. Они восстали не против концлагерей, не против того, что людей тысячами сжигают в крематориях, – они подняли мятеж, потому что Германия в опасности.
Мне было жаль его. Хирш мучился иначе, чем я. Его жизнь во Франции в куда большей степени вдохновлялась смесью праведного гнева, сострадания и жажды приключений, чем просто моралью и пошатнувшимся мировоззрением. На одной морали он бы далеко не уехал – мигом угодил бы в ловушку. А так он, сколь это ни странно, в чем-то оказывался с нацистами почти на родственном поприще, только превосходя их. Нацисты, хоть и лишенные совести, все равно оставались моралистами, ибо были навьючены мировоззрением – гнусной черной моралью и кровавым черным мировоззрением, пусть оно и сводилось к слепому рабскому послушанию и всемогуществу любого приказа. По сравнению с ними Хирш даже имел преимущество: вместо полной боевой выкладки у него за плечами был легкий полевой ранец, и он следовал только голосу своего разума, стараясь не подпадать под губительное воздействие эмоций. Недаром он вышел из народа, который науки и философию почитал с незапамятных времен, когда нынешние его гонители еще с деревьев не слезли. Он обладал преимуществом живого и подвижного ума – покуда ему удавалось вытеснить из сознания историческую память своего народа, вобравшую в себя два с половиной тысячелетия гонений, страданий и смирения. Ощути, вспомни он тогда в себе эту память – он тут же поплатился бы за это своей уверенностью, а вместе с ней и жизнью.
Я смотрел на Роберта. Лицо его казалось спокойным и собранным. Но точно такой же спокойный вид был в Париже у Йозефа Бэра, когда я слишком устал, чтобы ночь напролет проговорить с ним за бутылкой. А наутро Бэра нашли в его каморке повесившимся под оконным карнизом: ветер раскачивал тело и лениво пристукивал створкой окна, как сонный пономарь, бубнящий заупокойную молитву. Кто лишился корней, тот ослаблен и подвержен напастям, которых нормальный человек и не заметит. Особенно опасным становился разум, работающий вхолостую, как жернова мельницы без зерна. Я это знал; вот почему после всех переживаний минувшей ночи почти силой вернул себя в состояние усталого и смиренного забвения. Кто научился ждать, тот надежнее защищен от ударов разочарования. Но ждать Хирш никогда не умел.
К этому добавлялся еще и своеобразный комплекс кондотьера. Хирша мучило не только то, что покушение и мятеж сорвались, – он не мог примириться с тем, что все это было так неумело, так по-дилетантски сделано. Его распирало возмущение профессионала, углядевшего грубую ошибку.
В магазин вошла краснощекая домохозяйка. Ей требовался тостер с автоматическим отключением. Я наблюдал, как Хирш демонстрирует ей поблескивающий хромом электроприбор. Он был само терпение и даже сумел всучить даме вдобавок к тостеру еще и электрический утюг; тем не менее как-то не верилось, что он сделает карьеру коммерсанта.
Я смотрел в окно. Это был час бухгалтеров. В данный момент они всегда шли обедать в драгсторы. Недолгий час освобождения, когда из клеток своих контор, продуваемых всеми сквозняками воздушного охлаждения, бухгалтеры вырывались на волю и мнили себя на два платежных разряда выше, чем было на самом деле. Они проходили решительно, самоуверенными группками, полы пиджаков вальяжно колыхались на теплом ветру, проходили, громко болтая, полные обеденной жизни и убежденности в том, что, существуй на свете справедливость, им бы давно полагалось быть шефами.
Стоя рядом, Хирш тоже смотрел на них из-за моего плеча.
– Это парад бухгалтеров. Часа через два начнется парад жен. Они разом выпорхнут и станут летать от витрины к витрине, от магазина к магазину, будут донимать продавцов, ничего не покупая, болтать друг с дружкой, сплетничать, обсуждать последние слухи, которыми их исправно пичкают газеты, и при этом неукоснительно соблюдать простейшую иерархию денег: самая богатая всегда посередке, а две спутницы поскромнее эскортируют ее с флангов. Зимой это заметно с первого же взгляда по шубам: норка в центре, два черных каракуля по сторонам – и вперед, тупо и целеустремленно. Их мужья тем временем с еще большей целеустремленностью зашибают доллары, наживая себе ранний инфаркт. Америка – страна богатых вдов, которые, впрочем, очень быстро снова выскакивают замуж, и молодых мужчин, бедных и жадных до всего. Вот так и вертится вечный круговорот рождений и смертей. – Хирш засмеялся. – Да разве можно сравнить такую, с позволения сказать, жизнь с полным приключений и риска существованием блохи, что переносится с планеты на планету, то бишь с человека на человека и с собаки на собаку, или с путешествиями саранчи, что перелетает целые континенты, не говоря уж о жюльверновских переживаниях комара, когда его из Центрального парка забрасывает на Пятую авеню.
Кто-то постучал в окно.
– Началось воскресение из мертвых, – сказал я. – Это Равик. Или его брат.
– Да нет, это он сам, – возразил Хирш. – Он уже давно здесь. Ты не знал?
Я покачал головой. В Германии Равик был известным врачом. Он бежал во Францию, где ему пришлось нелегально работать помощником у куда менее одаренного французского врача. Я познакомился с ним в ту пору, когда он вдобавок подрабатывал медосмотрами в самом большом из парижских борделей. Он был очень хорошим хирургом. Обычно начинал операцию врач-француз, он оставался в операционной, пока пациенту делали наркоз, а уж потом входил Равик и проделывал все остальное. Он не находил в этом ничего зазорного, только радовался, что у него есть работа, что он может оперировать. Это был хирург от Бога.
– Где же ты сейчас-то работаешь, Равик? – спросил я. – И как? Ведь в Нью-Йорке официально нет борделей.
– Работаю в госпитале.
– По-черному? Нелегально?
– По-серому. Так сказать, квалифицированный вариант сиделки. Мне нужно еще раз сдавать экзамен на врача. На английском языке.
– Как во Франции?
– Лучше. Во Франции было еще тяжелей. Здесь хотя бы аттестат зрелости признают.
– Почему же не признают остальное?
Равик рассмеялся.
– Дорогой мой Людвиг, – сказал он. – Неужели ты до сих пор не усвоил, что представители человеколюбивых профессий – самые ревнивые люди на свете? Теологи и врачи. Их организации защищают посредственность огнем и мечом. Я не удивлюсь, если после войны, вздумай я вернуться на родину, мне и в Германии придется еще раз сдавать медицинский экзамен.
– А ты хочешь вернуться? – спросил Хирш.
Равик приподнял плечи.
– Об этом я подумаю в свой срок. «Ланский катехизис», параграф шестой: «Впереди еще целый год отчаяния. Для начала сумей пережить его».
– Сейчас-то с какой стати год отчаяния? – удивился я. – Или ты не веришь, что война проиграна?
Равик кивнул.
– Верю! Но как раз поэтому и не обольщаюсь. Покушение на Гитлера не удалось, война проиграна, но немцы, несмотря ни на что, продолжают сражаться. Их теснят повсюду, однако они бьются за каждую пядь, будто это чаша Святого Грааля. Ближайший год окажется годом сокрушенных иллюзий. Никто уже не сможет поверить, что нацисты, будто марсиане, свалились на Германию с неба и надругались над бедными немцами. Бедные немцы – это и есть нацисты, они защищают нацизм, не щадя жизни. Так что от разбитых эмигрантских иллюзий останется только гора фарфоровых черепков. Кто столь истово сражается за своих якобы поработителей – тот своих поработителей любит.
– А покушение? – не унимался я.
– Не удалось, – отрезал Равик. – И даже отзвука после себя не оставило. Последний шанс безнадежно упущен. Да и разве это был шанс? Верные Гитлеру генералы придавили его в два счета. Банкротство немецкого офицерства после банкротства немецкой юстиции. А знаете, что будет самое омерзительное? Что все будет забыто, как только война кончится.
Мы помолчали.
– Равик, – не выдержал наконец Хирш, – ты что, пришел душу нам бередить? Она и так вся дырявая.
Равик изменился в лице.
– Я пришел выпить, Роберт. В последний раз у тебя еще вроде оставался кальвадос.
– Кальвадос я сам допил. Но есть немного коньяка и абсента. И бутылка американской водки «Зубровка» от Мойкова.
– Налей-ка мне водки. Вообще-то я предпочел бы коньяк, но водка не пахнет. А мне сегодня в первый раз оперировать.
– За другого хирурга?
– Нет, самому. Но в присутствии заведующего отделением. Будет присматривать, все ли я так делаю. Операция, которая двенадцать лет назад, когда мир еще не сбрендил, была названа моим именем. – Равик усмехнулся. – «Живя в опасности, даже с иронией обходись осторожно!» По-моему, это ведь тоже из «Ланского катехизиса»? Мудрость, которую вы, похоже, забыли или которой все-таки придерживаетесь?
– Потихоньку начинаем забывать, – отозвался я. – Мы-то сдуру решили, что здесь мы в безопасности и мудрость нам больше не понадобится.
– Нет вообще никакой безопасности, – заметил Равик. – А когда в нее веришь, ее бывает меньше всего. «Отличная водка, ребята!» «Налейте мне еще!» «Мы живы!» Вот единственное, во что сейчас нужно верить. Что вы нахохлились, как мокрые курицы? Вы живы! Сколько людей приняли смерть, а так хотели пожить еще чуток, еще хоть самую малость! Помните об этом и лучше не думайте ни о чем другом, пока не кончится год отчаянья. – Он взглянул на часы. – Мне пора идти. Когда совсем падете духом, приходите ко мне в больницу. Один обход ракового отделения в два счета лечит от любой хандры.
– Ладно, – согласился Хирш. – Забери с собой «Зубровку».
– С чего вдруг?
– Твой гонорар, – пояснил Хирш. – Мы обожаем срочную терапию, даже когда она не слишком действует. А лечение депрессии еще более тяжелой депрессией – идея весьма оригинальная.
Равик рассмеялся.
– Невротикам и романтикам это не помогает. – Он забрал бутылку и заботливо уложил ее в свой почти пустой докторский саквояж. – Еще один совет, причем даром, – сказал он затем. – Не слишком-то носитесь с вашими чертовски трудными судьбами. Единственное, что вам обоим нужно, – это женщина, желательно не эмигрантка. Разделяя страдание с кем-то, страдаешь вдвойне, а вам это сейчас совсем ни к чему.
День близился к вечеру. Я только что перекусил в драгсторе, взяв самое дешевое, что было, – две сосиски и две булочки. Потом долго ел глазами рекламу мороженого, здесь оно было сорока двух сортов. Америка – страна мороженого; здесь даже солдаты на улице беззаботно лизали брикетики в шоколадных вафлях. Этим Америка разительно отличалась от Германии: там солдат готов стоять навытяжку даже во сне, а если случится ненароком выпустить газы, то он делает вид, что это автоматная очередь.
По Пятьдесят второй улице я побрел назад в гостиницу. Это была улица стриптиз-клубов. Все стены были сплошь облеплены афишами с обнаженными или почти нагими красотками, которые по ночам медленно раздевались на глазах у тяжело сопящей публики. Позже, ближе к ночи, перед дверями всех заведений, разодетые, будто турецкие генералы, водрузятся толстенные швейцары и забегают юркие зазывалы, наперебой расхваливая каждый свое зрелище. Улица запестрит многоцветьем и позолотой самых немыслимых ливрей и униформ, но нигде не будет видно предательских зонтов и утрированно больших сумок, по которым в Европе так легко распознать проституток. Их на здешних улицах просто не было, а публику в стриптиз-клубах, похоже, составляли одни понурые онанисты. Проститутки здесь назывались call girls, девушки по вызову, и связаться с ними можно было по телефону, номер которого удавалось раздобыть лишь по знакомству, строго конфиденциально, поскольку запрещалось и это – полиция преследовала жриц любви, будто заговорщиков-анархистов. Моралью Америки заправляли женские союзы.
Я покинул аллею онанистов и направился в кварталы бедной застройки. Здесь стояли узкие, убогого вида здания с лестницами, на верхних ступеньках которых, прислонясь к железным перилам, молчаливо и безучастно сидели местные жители. По тротуарам, около лестниц, вечно переполненные отбросами, в почетном карауле выстроились алюминиевые мусорные бачки. На проезжей части шныряющие между автомобилями подростки пытались играть в бейсбол. Их матери, как наседки, взирали на мир с высоты подоконников и лестничных ступенек. Детишки поменьше жались к ним, точно грязно-белесые мотыльки, которых вечерние сумерки и усталость заставили прибиться к этому неприглядному человеческому жилью.
Сменный портье Феликс О’Брайен стоял перед дверями гостиницы «Мираж».
– А Мойкова нет? – поинтересовался я.
– Сегодня же суббота, – напомнил О’Брайен. – Мой день. Мойков в разъездах.
– Верно, суббота. – Как же я забыл! Значит, впереди длинное, пустое воскресенье.
– Вот и мисс Фиола тоже господина Мойкова спрашивала, – вяло обронил Феликс.
– Она еще тут? Или уже ушла?
– По-моему, здесь еще. Во всяком случае, я не видел, чтобы она выходила.
Мария Фиола вышла мне навстречу из полумрака плюшевого будуара. На ней опять был ее черный тюрбан.
– У вас снова съемки? – спросил я.
Она кивнула.
– Совсем забыла, что сегодня суббота. Владимир уехал развозить клиентам свой напиток богов. Но я все предусмотрела. У меня теперь здесь припасена собственная бутылка. Припрятана у Мойкова в холодильнике. Даже Феликс О’Брайен пока что не смог ее обнаружить. Но это, конечно, долго не протянется.
Она прошла передо мной в комнатенку за стойкой и извлекла бутылку из холодильника, откуда-то из самого угла. Я поставил рюмки на столик возле зеркала.
– Вы не ту бутылку взяли, – предупредил я. – Это перекись водорода, к тому же концентрированная. Яд. – Я показал на этикетку.
Мария Фиола рассмеялась.
– Бутылка та самая. А этикетку я сама наклеила, чтобы Феликса отпугнуть. Перекись водорода, как и водка, ничем не пахнет. У Феликса нюх на спиртное просто феноменальный, но тут он ничего не учует, пока не попробует. А чтобы не попробовал – этикетка! Яд! Просто, верно?
– Все гениальные идеи просты, – ответил я, отдавая дань ее изобретательности. – Потому-то они так тяжело и даются.
– Первую бутылку я тут завела себе уже несколько дней назад. Чтобы Феликс на нее не позарился, Владимир Иванович перелил водку в старую, запыленную бутылку из-под уксуса и даже бумажку приклеил с русскими буквами. Но она на следующее же утро исчезла.
– Лахман? – спросил я, пронзенный молниеносной догадкой.
Она в изумлении кивнула.
– Вы-то откуда знаете?
– Природный дар аналитика, – сухо ответил я. – Он признался в содеянном?
– Да. И в приступе раскаяния даже принес взамен вот эту бутылку. Она больше. В ту едва пол-литра набиралось, а в этой добрых три четверти. Ваше здоровье!
– И ваше! – Лурдская вода, подумал я. Лахман даже заподозрить не мог, что это водка, он же вообще непьющий. Одному Богу известно, как приняла его с такой святой водицей пуэрториканка. Впрочем, может, он как-нибудь сообразил выдать ее за сливовицу из Гефсиманского сада?
– А я люблю тут посидеть, – призналась Мария Фиола. – С прежних времен привычка осталась. Я ведь долго тут жила. Я вообще люблю гостиницы. Всегда что-нибудь случается. Люди приезжают, уезжают… встречи, расставания… самые волнующие мгновения в жизни.
– Вы так считаете?
– А вы нет?
Я задумался. В моей жизни встреч и прощаний было достаточно. Даже с лихвой. Прощаний больше. Пожалуй, возможность спокойной жизни волнует меня куда сильнее.
– Может, вы и правы, – заметил я. – Но тогда, наверное, большие отели еще интереснее?
Мария затрясла тюрбаном так, что бигуди зазвенели.
– Они бесцветные. Здесь все по-другому. Здесь люди не прячут своих эмоций. Вы это по мне могли видеть. Вы тут Рауля уже встречали?
– Нет.
– А графиню?
– Только мельком.
– Тогда у вас все впереди. Еще водки? Рюмочки такие маленькие.
– Они всегда малы.
Я ничего не мог с собой поделать: при воспоминании о Лахмане мне почему-то казалось, что водка слегка попахивает ладаном. Опять вспомнился «Ланский катехизис»: «Бойся собственной фантазии: она преувеличивает, преуменьшает и искажает».
Мария Фиола потрогала пакет, лежавший рядом с ней на столике.
– Это мои парики. Рыжий, белокурый, черный, седой и даже белый. Жизнь манекенщицы – сплошная кутерьма. Я ее не люблю. Поэтому перед каждым сеансом делаю здесь последнюю остановку, а уж потом ныряю с головой во все эти переодевания. Владимир – это такой оплот спокойствия. У нас сегодня цветные съемки. А почему бы вам не пойти со мной? Или у вас другие планы?
– Да нет. Но ваш фотограф меня вышвырнет.
– Никки? Что за вздор! Там и без нас будет куча народу, не меньше дюжины. А если вам станет скучно, в любое время сможете уйти. Это не светская вечеринка.
– Хорошо.
Я бы за что угодно ухватился, лишь бы избежать одиночества моей гостиничной комнаты. В этой комнате умер эмигрант Заль. В шкафу я нашел несколько писем. Заль их так и не отправил. Одно было адресовано Рут Заль в исправительно-трудовой лагерь Терезиенштадт под Веной. «Дорогая Рут, я уже так давно ничего о тебе не слышал, – надеюсь, ты здорова и у тебя все в порядке». Я-то знал, что концлагерь Терезиенштадт – сборный пункт для евреев, которых оттуда переправляли в крематории Освенцима. Так что Рут Заль, по всей вероятности, давным-давно сожгли. Тем не менее письмо я отправил. Оно было полно отчаяния, раскаяния, расспросов и бессильной любви.
– Будем брать такси? – спросил я на улице, неприязненно вспомнив о своем порядком отощавшем бумажнике.
Мария Фиола мотнула головой.
– В гостинице «Мираж» такси берет только Рауль. Я это отлично помню по временам моей здешней жизни. Все остальные ходят пешком. И я тоже. Причем с удовольствием. А вы разве нет?
– Я-то пешеход-марафонец. Особенно в Нью-Йорке. Два-три часа прогулки для меня сущий пустяк. – Я умолчал о том, что завзятым любителем моционов стал только в Нью-Йорке, потому что здесь мне не надо опасаться полиции. Это давало ликующее ощущение свободы, к которому я все еще не привык.
– Нам недалеко, – сказала девушка.
Я хотел взять у нее пакет с париками, но она не позволила.
– Лучше я сама понесу. Эти штуки ужасно мнутся. Их надо держать в руках крепко, но бережно и нежно, иначе они выскользнут и не смогут избежать падения. Как женщины, – добавила она вдруг и рассмеялась. – Глупость какая! У меня порочная тяга к банальностям. Очень освежает, когда вокруг тебя целый день одни завзятые острословы.
– Так уж прямо одни?
Она кивнула.
– Это у них профессиональное. Шуточки, парадоксы, ирония – наверное, так проще скрыть легкий налет гомосексуальности, который лежит на всем, что связано с модой.
Мы шествовали против движения, рассекая встречный поток пешеходов. Мария шла быстро, энергичным и широким шагом. Она не семенила и голову держала высоко, как фигура на носу галеона, – из-за этого и сама она казалась выше ростом.
– У нас сегодня большой день, – сообщила она. – Цветные съемки. Вечерние платья и меха.
– Меха? В такую жару?
– Это не важно. Мы всегда опережаем погоду на один, а то и на два сезона. Летом готовится коллекция осенней и зимней одежды. Сперва фотографируют модели. А потом ведь надо еще успеть все пошить и развезти по оптовикам. На это уходят месяцы. Так что со временем года у нас всегда какая-то свистопляска. Живешь как бы в двух временах сразу – в том, которое на улице, и в том, которое на съемках. Иногда, бывает, и путаешь. И вообще, есть во всем этом что-то цыганское, ненастоящее, что ли.
Мы свернули в узкий переулок, освещенный только с двух концов белыми неоновыми огнями киосков и закусочных по углам. Мне вдруг пришло в голову, что впервые в Америке я иду по улице с женщиной.
В огромной, почти голой комнате, где было расставлено некоторое количество стульев и несколько светлых передвижных стенок, высвеченных яркими лампами, а также имелся небольшой подиум, собралась примерно дюжина людей. Фотограф Никки дружески обнял Марию Фиолу, вокруг носились обрывки разговоров, меня между делом представили всем собравшимся, тут же подали виски, и уже вскоре я очутился в кресле, несколько на отшибе от этой суеты и всеми забытый.
Тем спокойнее мог я наблюдать за необычным, новым для меня зрелищем. Большие картонные коробки уносили за занавеску, там распаковывали и затем, уже пустые, ставили на место. За ними, по отдельности, шли манто и шубы, вызвавшие интенсивные дебаты – что, как и в какой последовательности снимать. Помимо Марии здесь были еще две манекенщицы – блондинка, туалет которой почти исчерпывался изящными серебристыми туфельками, и очень смуглая брюнетка.
– Сперва манто, – решительно объявила энергичная пожилая дама.
Никки запротестовал. Это был худощавый человек с песочными волосами и тяжелой золотой цепью на запястье.
– Сперва вечерние платья! Иначе они под шубами помнутся!
– Девушкам совершенно не обязательно надевать их под шубы! Наденут что-нибудь другое. Или вовсе ничего. Меха увезут первыми. Сегодня же ночью!
– Хорошо, – согласился Никки. – Эти скорняки, похоже, не слишком нам доверяют. Значит, сперва меха. Давайте вот эту шляпку из норки. С турмалином.
Снова завязалась дискуссия, по-английски и по-французски, – как фотографировать шляпку. Я прислушивался к интонациям, стараясь не слишком вникать в суть. Чрезмерное и чуть напускное оживление участников напоминало театральное закулисье – будто идет репетиция «Сна в летнюю ночь» или «Кавалера роз». Казалось, еще немного – и сюда под пенье фанфар впорхнет Оберон.