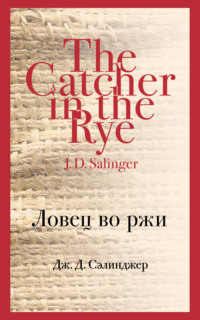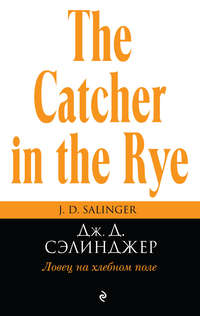Полная версия
Над пропастью во ржи
Постулаты дзен-буддизма стали для Сэлинджера способом критики американской современности. В дзен Сэлинджер видел союзника в борьбе против рационально-умозрительного отношения к миру, против присущего западной философской традиции системосозидания, когда в расчет берется абстрактный человек, а его живой, противоречивый, многомерный прототип выпадает из поля зрения. Устами юного вундеркинда Тедди из одноименного рассказа Сэлинджер осуждает слепоту западного типа сознания, не способного «видеть вещи такими, какие они на самом деле». Но какие же они все-таки на самом деле? Призыв к истинному взгляду похвален, беда только, что истинное здесь никак не связано с конкретно-историческим. По Тедди, подлинная мудрость не имеет ничего общего ни с логикой, ни с точным знанием, он за то, чтобы отучить людей от увлечения «яблоками с древа познания»: надо забыть про несущественные различия между вещами и явлениями (а значит, и между добром и злом в привычном понимании), надо принять мир целиком, слиться с ним. В отличие от большинства нервных, мятущихся персонажей Сэлинджера, Тедди, отбросив логику, а с ней и эмоции, обрел умиротворенность. Но за этой умиротворенностью – равнодушие к тому, что происходит вокруг. От неискушенной в метафизических тонкостях Эсме исходили добро и теплота, от Тедди веет холодом: к людям он относится с тем же вежливым и сдержанным любопытством, с каким смотрит на апельсиновые корки, проплывающие мимо окна каюты. Сэлинджер и в этом рассказе избегает прямых оценок, поэтому о его симпатиях к Тедди можно говорить с известной гипотетичностью, но «антизападная» отрешенность от мира этого вундеркинда нет-нет да проявит загадочное сходство с добрым старым эгоцентризмом, от которого страдают очень многие литературные герои Запада нашего времени.
Тедди выше тревог и сомнений. Субъективно он счастлив. Объективно – нелеп и даже трагичен. Ребенок без детства, он существует для других как объект потребления – как научная загадка, курьез природы, его изучают специалисты, на него смотрят как на интересную диковинку. Холодным и безжизненным предстает в этом рассказе мир детства. Раньше у Сэлинджера дети спасали мир. Теперь они «ненавидят всех на этом океане», как сестра героя, или, как Тедди, замкнулись в себе. Развязка новеллы оставляет в недоумении – что же, собственно, случилось? Автор решительно не желает помочь читателям, но, так или иначе, пронзительный детский крик в финале – сигнал серьезного неблагополучия в мире, где одни слишком увлечены сиюминутностью, а другие слишком от нее отрешены.
«Очень сложно предаваться размышлениям и жить духовной жизнью в Америке» – эти слова Тедди мог бы повторить и Симор Гласс, еще один кандидат в идеальные герои. Сделав названием повести «Выше стропила, плотники» строку из эпиталамы Сафо, Сэлинджер выдвинул свой – иронический – вариант современной свадебной песни. Непредвиденные обстоятельства, возникшие при заключении брачного союза Симора с Мюриель, читаются как указания на опасности, что ждут неординарную личность, желающую «заключить союз» с обществом. Рассказчик явно на стороне Симора, провидца сущностей и поэта, и с неприязнью относится к миру пошлости и мещанства, олицетворяемому родственниками невесты. Здесь, однако, рождается противоречие, разрешить которое Сэлинджеру не удается ни в этой повести, ни тем более в заключительных произведениях «саги о Глассах». Сочувствуя утонченным Глассам, трудно вместе с тем согласиться, что пошляки – родственники невесты – вся Америка, и уж тем более – весь мир. Так же трудно отделаться от мысли, что и материальное благополучие, и интеллектуальная независимость Глассов – результат тесного сотрудничества с раздражающим их обществом: с малых лет они выступали в пошлой, но хорошо оплачиваемой радиосерии «Умные ребята», зарабатывая на жизнь и обучение в школах и колледжах. Существовать за счет презираемого общества, на словах провозглашая его неприятие и в то же самое время ощущая свою полную от него зависимость, – знакомая позиция западного либерального интеллигента, но ироническое освещение тягот подобного удела в поздних произведениях Сэлинджера возникает, похоже, вопреки намерениям автора.
Остро переживая бесперспективность и безжизненность ориентиров и идеалов, которыми привыкли вдохновляться его соотечественники, Сэлинджер изобразил мучительный процесс утраты веры и напряженные поиски новых ценностей. Однако его находки – замена западных символов веры на буддийские – трудно признать удачными. И он, и его герои Глассы понимают, что даже сверходаренная личность не может жить и работать, совершенно игнорируя других, а раз так, то необходимо искать пути к людям. В годы радиокарьеры герой без страха и упрека Симор Гласс (не правда ли, странное сочетание в сэлинджеровских «идеальных личностях» высокой естественности по сути и актерства по профессии?) требовал от своих партнеров играть с полной отдачей «для Толстухи», той безымянной слушательницы, для которой эта передача, может быть, – из немногих радостей в жизни. Однако готовность «возлюбить Толстуху» как-то легко сочетается с неприязнью к тем вполне конкретным Толстухам, с которыми приходится сталкиваться в повседневности. Можно, конечно, упрекнуть того же Бадди, что он еще «не дорос» до симоровского всеприятия и всепрощения и напрасно так сердится на противных мещан, но трудно избавиться от ощущения, что провозглашенная Симором любовь ко всем, по сути дела, означает отсутствие серьезных обязательств по отношению к кому бы то ни было. Сержант Икс, призывая к любви, цитировал Достоевского. Раз уж русский писатель взят в союзники, уместно вспомнить его рассуждения, как нелегко добиться любви и братства в обществе, где процветает «начало единичное, личное, беспрерывно обособляющееся, требующее с мечом в руках своих прав». Поиск прочных ценностей упирается у Сэлинджера и его героев в противоречие: единение и любовь – насущная необходимость и в то же время роковая невозможность в пределах их глубоко индивидуалистического мироощущения, возросшего на почве той самой буржуазности, которую они охотно осуждают.
В финале повести «Выше стропила, плотники» Бадди Гласс размышляет, не послать ли Симору «чистый листок бумаги вместо объяснения». Начиная с 1965 года поклонники Сэлинджера вынуждены довольствоваться подобными «чистыми листками». Согласно буддийскому учению, молчание – одна из высших ступеней самопознания. В этом ли смысле понимать наступившее молчание Сэлинджера-художника? Или же это капитуляция перед неразрешимостью проблем, вставших перед ним и его героями? А может, за этим – убеждение в неадекватности творчества вообще как способа выражения того важного и сложного комплекса чувств, настроений, размышлений, что рождается в его внутреннем мире? Остается строить гипотезы. И снова возвращаться к тому, что написано Сэлинджером, остро ощутившим кризис американской идеологии, напряженно и самостоятельно искавшим иные – подлинные и одухотворяющие – ценности.
Сергей БеловНад пропастью во ржи
1
Если вам на самом деле хочется услышать эту историю, вы, наверно, прежде всего захотите узнать, где я родился, как провел свое дурацкое детство, что делали мои родители до моего рождения, – словом, всю эту дэвидкопперфилдовскую муть. Но, по правде говоря, мне неохота в этом копаться. Во-первых, скучно, а во-вторых, у моих предков, наверно, случилось бы по два инфаркта на брата, если б я стал болтать про их личные дела. Они этого терпеть не могут, особенно отец. Вообще-то они люди славные, я ничего не говорю, но обидчивые до чертиков. Да я и не собираюсь рассказывать свою автобиографию и всякую такую чушь, просто расскажу ту сумасшедшую историю, которая случилась прошлым Рождеством. А потом я чуть не отдал концы, и меня отправили сюда отдыхать и лечиться. Я и ему – Д. Б. – только про это и рассказывал, а ведь он мне как-никак родной брат. Он живет в Голливуде. Это не очень далеко отсюда, от этого треклятого санатория, он часто ко мне ездит, почти каждую неделю. И домой он меня сам отвезет – может быть, даже в будущем месяце. Купил себе недавно «Ягуар». Английская штучка, может делать двести миль в час. Выложил за нее чуть ли не четыре тысячи. Денег у него теперь куча. Не то что раньше. Раньше, когда он жил дома, он был настоящим писателем. Может, слыхали – это он написал мировую книжку рассказов «Спрятанная рыбка». Самый лучший рассказ так и называется – «Спрятанная рыбка». Там про одного мальчишку, который никому не позволял смотреть на свою золотую рыбку, потому что купил ее на собственные деньги. С ума сойти, какой рассказ! А теперь мой брат в Голливуде, совсем скурвился. Если я что ненавижу, так это кино. Терпеть не могу.
Лучше всего начну рассказывать с того дня, как я ушел из Пэнси. Пэнси – это закрытая средняя школа в Эгерстауне, штат Пенсильвания. Наверно, вы про нее слыхали. Рекламу вы, во всяком случае, видели. Ее печатают чуть ли не в тысяче журналов – этакий хлюст, верхом на лошади, скачет через препятствия. Как будто в Пэнси только и делают, что играют в поло. А я там даже лошади ни разу в глаза не видал. И под этим конным хлюстом подпись: «С 1888 года в нашей школе выковывают смелых и благородных юношей». Вот уж липа! Никого они там не выковывают, да и в других школах тоже. И ни одного «благородного и смелого» я не встречал, ну, может, есть там один-два – и обчелся. Да и то они такими были еще до школы.
Словом, началось это в субботу, когда шел футбольный матч с Сэксон-холлом. Считалось, что для Пэнси этот матч важней всего на свете. Матч был финальный, и, если бы наша школа проиграла, нам всем полагалось чуть ли не перевешаться с горя. Помню, в тот день, часов около трех, я стоял черт знает где, на самой горе Томпсона, около дурацкой пушки, которая там торчит, кажется, с самой войны за независимость. Оттуда видно было все поле и как обе команды гоняют друг дружку из конца в конец. Трибун я как следует разглядеть не мог, только слышал, как там орут. На нашей стороне орали во всю глотку – собралась вся школа, кроме меня, – а на их стороне что-то вякали: у приезжей команды народу всегда маловато.
На футбольных матчах всегда мало девчонок. Только старшеклассникам разрешают их приводить. Гнусная школа, ничего не скажешь. А я люблю бывать там, где вертятся девчонки, даже если они просто сидят, ни черта не делают, только почесываются, носы вытирают или хихикают. Дочка нашего директора, старика Термера, часто ходит на матчи, но не такая это девчонка, чтоб по ней с ума сходить. Хотя в общем она ничего. Как-то я с ней сидел рядом в автобусе, ехали из Эгерстауна и разговорились. Мне она понравилась. Правда, нос у нее длинный, и ногти обкусаны до крови, и в лифчик что-то подложено, чтоб торчало во все стороны, но ее почему-то было жалко. Понравилось мне то, что она тебе не вкручивала, какой у нее замечательный папаша. Наверно, сама знала, что он трепло несусветное.
Не пошел я на поле и забрался на гору, так как только что вернулся из Нью-Йорка с командой фехтовальщиков. Я капитан этой вонючей команды. Важная шишка. Поехали мы в Нью-Йорк на состязание со школой Мак-Берни. Только состязание не состоялось. Я забыл рапиры, и костюмы, и вообще всю эту петрушку в вагоне метро. Но я не совсем виноват. Приходилось все время вскакивать, смотреть на схему, где нам выходить. Словом, вернулись мы в Пэнси не к обеду, а уже в половине третьего. Ребята меня бойкотировали всю дорогу. Даже смешно.
И еще я не пошел на футбол оттого, что собрался зайти к старику Спенсеру, моему учителю истории, попрощаться перед отъездом. У него был грипп, и я сообразил, что до начала рождественских каникул я его не увижу. А он мне прислал записку, что хочет меня видеть до того, как я уеду домой. Он знал, что я не вернусь.
Да, забыл сказать – меня вытурили из школы. После Рождества мне уже не надо было возвращаться, потому что я провалился по четырем предметам и вообще не занимался и все такое. Меня сто раз предупреждали – старайся, учись. А моих родителей среди четверти вызвали к старому Термеру, но я все равно не занимался. Меня и вытурили. Они много кого выгоняют из Пэнси. У них очень высокая академическая успеваемость, серьезно, очень высокая.
Словом, дело было в декабре, и холодно, как у ведьмы за пазухой, особенно на этой треклятой горке. На мне была только куртка – ни перчаток, ни черта. На прошлой неделе кто-то спер мое верблюжье пальто прямо из комнаты вместе с теплыми перчатками – они там и были, в кармане. В этой школе полно жулья. У многих ребят родители богачи, но все равно там полно жулья. Чем дороже школа, тем в ней больше ворюг. Словом, стоял я у этой дурацкой пушки, чуть зад не отморозил. Но на матч я почти и не смотрел. А стоял я там потому, что хотелось почувствовать, что я с этой школой прощаюсь. Вообще я часто откуда-нибудь уезжаю, но никогда и не думаю ни про какое прощание. Я это ненавижу. Я не задумываюсь, грустно ли мне уезжать, неприятно ли. Но когда я расстаюсь с каким-нибудь местом, мне надо почувствовать, что я с ним действительно расстаюсь. А то становится еще неприятней.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Подробнее об этом см.: Галинская И. Философские и эстетические основы поэтики Сэлинджера. М., Наука, 1975. Завадская Е. Культура Востока в современном западном мире. М., Наука, 1977, и др.