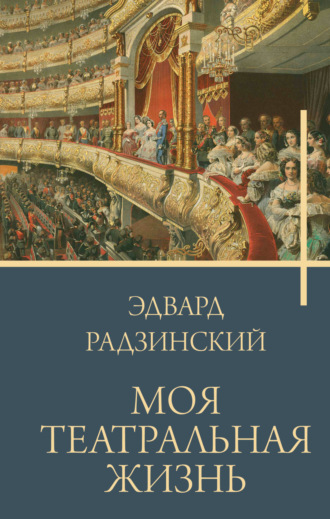
Полная версия
Моя театральная жизнь

Эдвард Радзинский
Моя театральная жизнь
© Э.С. Радзинский, 2024
© ООО Издательство АСТ, 2024
* * *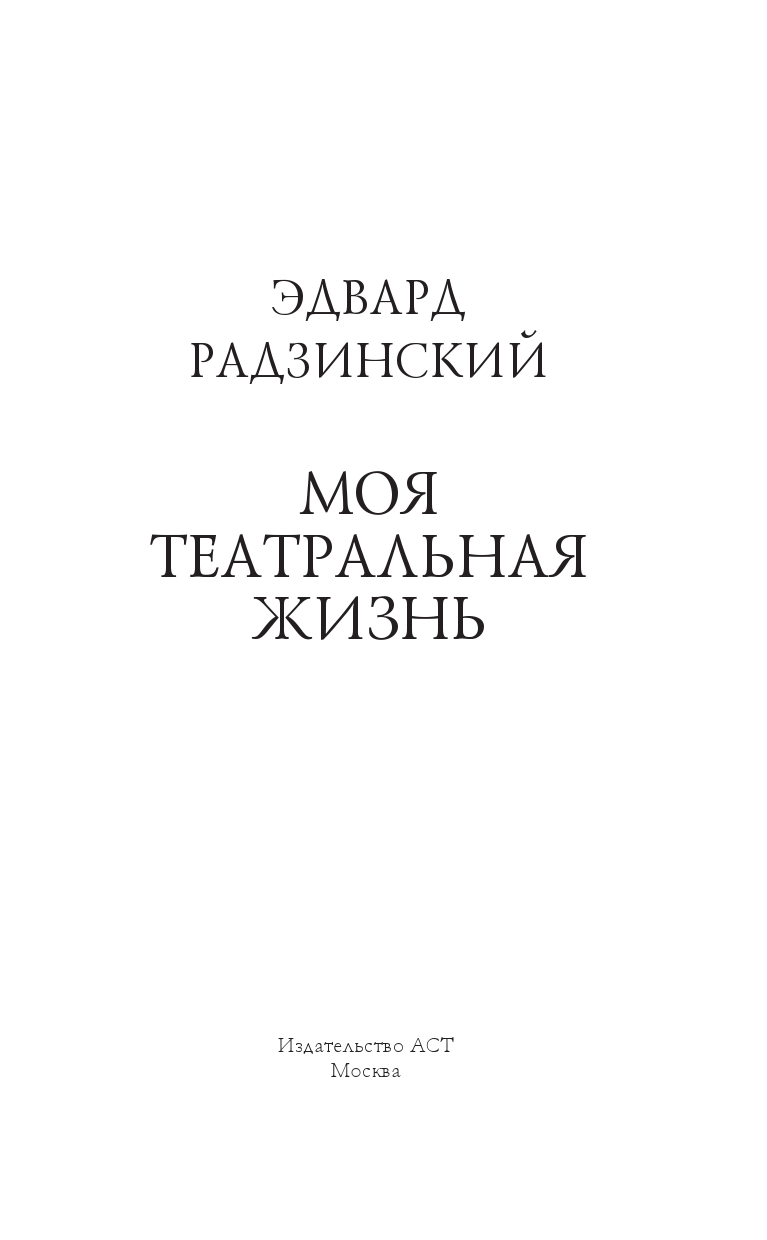
Отец
Отец был интеллигентом, помешанным на европейской демократии. Он часто цитировал мне Томаша Масарика: «Что такое счастье? Это – право выйти на главную площадь и заорать во все горло: “Господи, какое же дурное у нас правительство!”»… И глаза его становились влажными.
Его идолом был вождь кадетов Павел Милюков, его частый рассказ – как Владимир Набоков, отец знаменитого писателя, закрыл своей грудью Милюкова от пули и погиб сам. Отец восторженно приветствовал Февральскую революцию. Это была его революция, его правительство. «Его, как первую любовь, России сердце не забудет», – цитировал он чьи-то стихи о Керенском. Но несколько месяцев свободы быстро закончились, и к власти пришли большевики. Почему он не уехал за границу – он, блестяще образованный, говоривший на английском, немецком, французском и даже думавший часто по-французски? Обычная история: он любил Россию. В 20-х он редактировал одесский журнал «Шквал» и писал статьи под псевдонимом Уэйтинг, что означало «Ожидающий». Ожидающий возврата погубленного мира – мира Февральской революции, мира, где будет править первый свободно избранный русский парламент.
Однако первый русский парламент бесславно погиб (как и Февральская революция). Его заседания преспокойно прекратил полуграмотный матрос с револьвером. И под дулами наганов, под насмешки матросни избранные народом депутаты, тесня друг друга, покорно заспешили к выходу. В профессию политика входит не только жизнь, но и смерть. Она подчас важнее его жизни. Но не нашлось никого, кто согласился бы умереть во имя свободы… Отец этого понимать не хотел.
Тот краткий глоток свободы – время митингов, надежд, свободы – воистину казался золотым веком в торжественно глухой тьме сталинской России.
В 20-х «Ожидающий» был уверен, что исчезнувший мир Февраля когда-нибудь вернется. А пока он писал сценарии для первых немых советских фильмов на знаменитой Одесской кинофабрике. Но вскоре наступила пора окончательного укрощения мысли. Гибель Авангарда и Утопии – создание сталинской тоталитарной империи.
Мы не позволим жандармским коленям,Музу зажав, ей кудри остричь.Будь они из Третьего отделения,Или из Особого отдела Три, –гордо писал поэт в 20-х.
Позволили, еще как позволили!
Интеллигенцию наградили страхом и немотой.
Но отец не роптал, он жил тихо, незаметно, точнее – существовал. Оставив журналистику, переводил пьесы с французского, писал инсценировки для театра. В том числе и по романам знаменитого в сталинское время писателя Петра Андреевича Павленко.
Любимым героем отца был философ-скептик Бротто из романа Анатоля Франса «Боги жаждут». И как франсовский герой печально-насмешливо наблюдал ужасы Французской революции, с той же печально-насмешливой улыбкой отец наблюдал жизнь сталинской России… с французским романом в руках.
Он учил меня размышлять, вместо того чтобы действовать. Он верил в изречение: «Кто действует, тот не размышляет». Он просил меня не забывать – даже маленькая монетка, поднесенная к глазу, заслоняет от тебя целый мир. Никакого фанатизма. Любовь к живущим, ирония и сострадание – таков был его девиз. Он был всегда мягок и вежлив и ненавидел спорить. И был прав. В российском споре, обычном споре до ненависти, всегда умирает истина.
И он любил повторять строки: «Но в мире все вмещает человек, который любит мир и верит в Бога».
И когда я с восторгом декламировал любимую строчку Маяковского: «Тот, кто постоянно ясен, – тот, по-моему, просто глуп», – он только пожимал плечами.
Но однажды все-таки сказал:
– Это завет глупца. Постарайся запомнить другое… понять это сейчас ты вряд ли сможешь. – И он заставил меня записать слова Сенеки: «Так пойми же, что дается мудростью: неизменная радость. Душа мудреца – как надлунный мир, где всегда безоблачно. Значит, есть ради чего нам стремиться к мудрости: ибо мудрец без радости не бывает».
Почему его не посадили? Его защитила мощная фигура Павленко. Тот был автором сценариев двух самых знаменитых кинофильмов «Клятва» и «Падение Берлина». В этих культовых фильмах действовал сам Вождь. Романы Павленко тоже были знамениты. Четырежды ему присуждали Сталинскую премию первой степени. Согласно логике тех времен, арестовать отца – значило бросить тень на Павленко.
Но отец понимал: это когда-нибудь закончится.
И он ждал. Был даже собран узелочек на этот случай. Но, несмотря на эту жизнь под топором, он всегда улыбался. Я так и запомнил его с этой вечной улыбкой.
Он очень любил бунинские слова, которые бог весть как донеслись из эмиграции: «Хорошо было Ною – в его жизни был всего один потоп. Правда, потом пришел Хам, но ведь тоже всего один».
Слова эти часто повторял и знакомец отца Юрий Карлович Олеша.
Первые уроки истории
В 13 лет я начал понимать про Сталина, хотя тогда отец ничего не говорил мне о нем. Но у нас лежало Собрание сочинений вождя. И я с изумлением прочел его. И понял, что все эти ужасные расстрелянные «враги народа» были в свое время друзьями и союзниками Сталина.
Кроме того, к нам приходил некий мальчик Игорек, его кормили, давали ему деньги. И он уходил.
– Его отца посадили, – шепнула мне моя няня.
Няня, как я потом узнал, была дочерью кулака. Отца и мать выслали, а они с сестрой бежали из деревни, и перед бегством няня сожгла свою избу. Моя мать все это знала, но приютила ее.
Однажды я спросил отца о Сталине. Он ничего не ответил. А потом дал мне прочесть рассказ. В нем люди молились в храме божеству. А потом оказалось, что в алтаре за занавесью лежал гигантский спрут.
С 15 лет он стал пересказывать мне устные рассказы Павленко о Сталине. Как и опубликованные впоследствии рассказы Симонова, они были полны восхищения… Восхищения мощью диктатора. Умом диктатора. Юмором диктатора. Рабского восхищения. И отец это как-то легонько подчеркивал. И после каждого рассказа следовал его вечный рефрен: «Может быть, когда-нибудь ты напишешь о нем».
В детстве моим кумиром был Наполеон. Фантастический человек, вернувший в XIX век, обещавший стать веком буржуа и денег, безрассудное величие античных героев. Человек, отвергавший понятие «невозможно».
«Дерзайте!» – любимый лозунг Французской революции – его жизнь!
Я был плохим патриотом. Я много раз читал любимую книгу Тарле о Наполеоне, тщетно надеясь, что на этот раз великий Наполеон все-таки победит. Остров Святой Елены я ненавидел. В конце концов я научился читать книгу Тарле так, как мне хотелось. Я заканчивал читать ее конгрессом в Дрездене, где Наполеон собирал жалких, трепещущих европейских королей. Тридцать европейских монархов съехались поклониться ему. И прусский король, и австрийский император, и немецкие князья – стояли с покорно обнаженными головами, а он стоял перед ними в треуголке с кокардой Французской республики.
Я попросту теперь не читал дальше – ни про отречение, ни про Святую Елену.
Я не мог понять отца, который все пытался объяснить мне, что без острова Святой Елены, без трагического финала – нет наполеоновской легенды. «У меня были две короны – Франции и Италии. Мне не хватало третьей и самой главной – тернового венца», – цитировал отец слова Наполеона. Пытаясь объяснить: без страдания нет подлинного бессмертия. «Кто такая Мария-Антуанетта без гильотины? Заурядная кокетка, носившая корону, как модную шляпку», – говорил отец.
Но тщетно. Я был здоровый подросток. Я не понимал радости страданий. Я понимал тогда только радость побед.
Илья Самойлович Зильберштейн был другом отца и редактором знаменитого «Литературного наследства». Он был знаменитым коллекционером русской живописи. Его квартира была увешана картинами великих мастеров.
– Это – Репин, – объяснял он мне, – очень редкая картина… И это тоже – Репин, а это – Серов…
Но я был равнодушен к его фантастической галерее, ибо там не было Наполеона.
Илья Самойлович решил исполнить мою мечту – он отвел меня к самому Тарле.
Поход к Наполеону
Я не знал тогда его удивительной биографии.
Евгений Тарле был знаменитым историком уже в начале XX века. Один из самых популярных профессоров Петербургского университета, он участвовал в демонстрации – получил удар казацкой шашки. С радостью встретил Февральскую революцию – стал членом Чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений царского режима.
При большевиках был избран в Академию, но…
Для большевистских историков он оставался подозрительным, «классово чуждым», несмотря на революционный шрам от казацкой сабли.
И уже в январе 30-го года Тарле был арестован. На инспирированном процессе Промпартии он фигурировал как будущий министр иностранных дел в правительстве заговорщиков… Но это была лишь «проба пера» будущих кровавых процессов Большого террора. Тарле посадили. Но сидел он всего полтора года в знаменитых «Крестах», после чего отделался высылкой. Сталин с недоверием относился к врагам Тарле – историкам-марксистам, как правило, почитателям Троцкого и прочих вождей революции. Уничтоживший их всех впоследствии, Сталин быстро вернул Тарле из ссылки. Более того, в разгар террора Тарле вернули звание академика. Сталин, смиритель нашей революции, благосклонно отнесся к его «Наполеону» – смирителю революции французской.
Теперь Тарле жил в знаменитом «Доме на набережной», большинство прежних обитателей которого лежали в бездонной могиле в Донском монастыре.
В этот дом и привел меня Зильберштейн.
Тарле шел восьмой десяток, и он был пугающе похож на Наполеона в старости. Он, конечно, это знал.
Во всяком случае, помню, он сидел под огромной гравюрой Наполеона.
Посещение меня разочаровало. Тарле как-то холодно выслушал мои восторги Наполеоном. И вообще, о Наполеоне, к моему разочарованию, в этот вечер он совсем не говорил. Вместо этого он долго и нудно рассказывал о классовых выступлениях французских рабочих в XIX веке. После чего они с Зильберштейном заговорили о письмах Герцена, выкупленных Зильберштейном за границей. Экземпляра «Наполеона» у Тарле почему-то тоже не оказалось. Вместо желанного «Наполеона» он подарил мне свою книгу «Жерминаль и Прериаль». Книга оказалась все о тех же французских рабочих и показалась мне невероятно скучной. Но главное – там не было Наполеона.
Отец выслушал с улыбкой мои разочарования и промолчал. Он не посмел мне объяснить: увенчанный славой старый академик попросту испугался. Испугался мальчишеских восторгов Наполеоном, как бы порожденных его книгой. Ведь Бонапарт был врагом России. И к тому же душителем революции. «Бонапартизм» – одно из страшных обвинений во время сталинских процессов. И старый Тарле поспешил подарить мне «правильную книгу» – о классовой борьбе французских трудящихся.
Друзьями отца были Виктор Шкловский и Сергей Эйзенштейн. У меня долго хранилось чудом уцелевшее раблезианское письмо Эйзенштейна к отцу с весьма откровенными рисунками. (Его украли из моего дома.)
Вообще, от отца осталось мало его личных вещей. Слишком много его знакомых отправились на тот свет, слишком много писем и фотографий ему пришлось уничтожить.
Отец окончил знаменитую одесскую Ришельевскую гимназию. Остались великолепные тома Шекспира и Алексея Толстого, которыми награждали лучших ришельевцев «за благонравие и отличные успехи».
И осталась фотография. На ней – шестеро гимназистов, трое из них погибли в Гражданской войне, сражаясь на стороне белых.
«История не в том, что мы носили, а в том, как нас пускали нагишом».
Но один из бывших гимназистов-ришельевцев жил тогда в соседнем парадном. И часто навещал отца.
Его звали Юрий Карлович Олеша.
Я до сих пор его вижу… Он идет по весенней Москве, коренастый, в длинном, когда-то белом плаще.
И этот видавший виды грязноватый плащ почти волочится по асфальту. И шарф как-то щегольски намотан на шею. И шляпа – широкая, тоже видавшая виды, с опущенными полями. Из-под этих полей – его хищный нос, седые усы и беспощадный взгляд нашего писателя в несчастье…
Он входит в букинистический магазин. Букинист почтительно предлагает ему, видно, редкие книги. Стоя у прилавка, он листает страницы. Точнее – ласкает страницы… гладит, нежно переворачивает. А потом с какой-то яростной усмешкой возвращает книгу.
И старый букинист, понимающе покачав головой, ставит книгу на место.
У Олеши нет лишних денег. У него вообще нет денег.
Ибо он пьет.
В 20–30-х годах он гремел. Его повесть «Зависть» была не просто знаменита. Ее начало – эпатажная фраза: «По утрам он пел в клозете», – стала паролем тогдашней «крутой» интеллигенции. Но сейчас, в 50-е годы, его почти не печатают, о нем забыли, и Юрий Карлович Олеша – выпускник Ришельевской гимназии – приходит в наш дом к моему отцу, другому выпускнику той же знаменитой гимназии – поговорить.
Они разговаривают, а я стою под дверью и подслушиваю. Здесь, под дверью, я и получаю уроки всемирной истории от Юрия Карловича. Я слушаю его бесконечный монолог.
Олеша: «Станислав, порядочный человек не может жить долго. Мы с тобой уже засиделись. Как любил говорить Ильф: “Можно уходить – нового нам здесь уже ничего не покажут…” Хотя я знаю, ты по-прежнему надеешься на мало предсказуемый бег нашей птицы-тройки. Вообще история очень печальная вещь. Шведский король Густав, почти сверстник твоего отрока, очень боялся вступить на трон, и мудрый канцлер его успокаивал. Он говорил: “Ваше Величество! Если б Вы знали, каким малым количеством мудрости управляется этот мир!”»
«Тс-с-с!..» – говорит отец.
«Ты думаешь, отрок подслушивает? Это не пугает.
В последнее время мне не хватает аудитории… Так я продолжу мысль, Станислав, цитатой из стихотворения:
Я тебе расскажу о таких дураках,Кто судьбу человечества держит в руках!Я тебе расскажу о таких подлецах,Кто уходит в историю в белых венцах!Или еще лучше: “История не в том, что мы носили, а в том, как нас пускали нагишом”».
И он хохочет. А несчастный отец боится, что я перескажу эти стихи в школе. Он хорошо знает мою опасную память, тренированную память. Ибо каждый день он заставляет меня учить 14 строк из «Евгения Онегина».
«У Монтеня есть замечательное понятие – “бродяжничество мысли”, – продолжает Олеша. – К старости выдумывать какой-то сюжет почему-то стыдно… Все, что мне приходит в голову, я попросту записываю на листочках, и они и должны составить книгу… и это интересно, потому что там нет вранья, ибо нет сюжета!»
И начинается «бродяжничество мысли». Он как-то сладострастно рассказывает, как разыграл Булгакова…
«1-е апреля, но по старому стилю, – очень удобный день для розыгрышей. Никто к ним не готов. Булгаков написал тогда письмо Сталину с просьбой его выслать или дать работу. Все ждали ужасного. Но я знал – обойдется. Потому что письмо присоветовал ему написать этот стукач… о котором, помнишь, были чьи-то вирши:
Он идет неизвестно откуда,Он идет неизвестно куда,Но идет он, наверно, оттудаИ идет он, конечно, туда…И 1-го апреля, но по старому стилю, я позвонил Мише (с грузинским акцентом): “С вами будет говорить товарищ Сталин”. Он тотчас узнал меня, послал к черту. И наверняка лег спать – он всегда спал после обеда. Но тут его разбудил новый телефонный звонок. В трубке сказали: “Сейчас с вами будет говорить товарищ Сталин”. Он выматерился, бросил трубку, понял, что я не унимаюсь. Но тут же звонок последовал вновь, и раздался очень и очень строгий голос: “Не бросайте трубку, товарищ Булгаков, надеюсь, вам понятно?” И тотчас другой голос, с грузинским акцентом, начал сразу: “Что, мы вам очень надоели, товарищ Булгаков?”»
«Бродяжничество мысли» продолжается:
«Ты знаешь, Станислав, мир спасет метафора. Вот я никогда не мог запомнить ни одной даты из истории, потому что как только читал дату, я ее уже забывал.
Но если все это прикрыть метафорой?.. Давай вдвоем писать Историю. К примеру: “Скифы с усами, седыми, как дым, жили в каком-то веке”. Я буду писать “седыми, как дым”, а ты как непьющий будешь уточнять, в каком это было веке. Ты делаешь две ошибки в жизни, Станислав. Первая – ты не пьешь. И вторая – у тебя нет усов. Понимаешь, усы очень важны в нашем климате. Вот Чехов очень ценил усы, он написал: “Мужчина без усов, что женщина с усами”. Но Монтень, он первый понял главное предназначение усов. Дело в том, что на усах мы приносим запахи женских поцелуев… О поцелуях читай у Боккаччо. Он писал, что, к сожалению, мужья никак не могут понять, как важно, когда их жен целует другой. Ведь от чужих поцелуев губы их жен… обновляются! Ты знаешь, Станислав, эротическая литература…»
И тут они переходят на французский! Которого я не знаю! На французский – в самом интересном месте! Перемежая французский изречениями на латыни! Которую я не знаю тоже!
Что делать, они были учениками царской, классической гимназии, а я – ученик нашей школы, которая справедливо называется «средней». Я – дитя проекта, который начался с лозунга, достойного героя «Бесов»: «Организованное понижение культуры». И придумал его интеллектуал Бухарин! И продолжился сей проект знаменитым изгнанием. По ленинскому приказу полтораста ученых – цвет общественной мысли России – были выброшены из страны. И они брели по городу Штеттину, под руку со своими женами, толкая перед собой фуры с жалким скарбом. В этой знаменитой нищей процессии шли вместе: Бердяев, Ильин, Лосский, Кизеветтер, князь Трубецкой… кого там только не было! И все это закономерно заканчивалось в 50-х правительством, во главе которого стоял недоучившийся семинарист; рядом с ним были вчерашний сапожник Каганович, вчерашний луганский слесарь Клим Ворошилов и символ интеллигентности, «русский Талейран», человек в пенсне, Молотов, едва окончивший реальное училище. Я был из страны, где необразованность стала синонимом лояльности.
Обычно конец их бесед был для меня опасен: «Дорогой Станислав! – говорил Олеша. – Не пора ли нам немного позабавиться? Призовем отрока, которому надоело ничего не понимать за дверью».
Я вхожу в комнату.
– Правда ли, ты учишь наизусть каждый день 14 строк Пушкина? Представляю, как ты должен его ненавидеть.
– Не обижай. Он разнообразен. Сейчас вместо Пушкина он учит речи Цицерона.
(В борьбе с моей необразованностью отец заставлял меня учить наизусть речи Цицерона. Речи мне понравились. И еще больше жизнь Цицерона. И уже вскоре в сочинении на тему «Кем ты собираешься стать?» я написал, что буду оратором. Изумленная учительница справедливо объяснила мне, что такой профессии у нас нет.
Она, правда, не объяснила мне, что ее нет и не будет.)
– Скажи мне, отрок, кто убил Пушкина? Только не вздумай отвечать, что это сделал Дантес! – начинает Олеша.
Он, улыбаясь, глядит на мои мучения и наконец сообщает:
– Пушкина убил… лирический герой молодого Пушкина!.. Станислав, не волнуйся, сейчас я ему все объясню. Лирического героя молодого Пушкина сам поэт справедливо называет как? «Повеса»! Он постиг что? Что «вечная любовь живет едва ли три недели».
И этот повеса знает только одного врага – это кто? Это муж… (отцу). Станислав, я его не порчу, поверь, он испорченней нас обоих, вспомни себя в его возрасте. Каждое новое поколение гордится, что оно испорченнее предыдущего… И он продолжил меня мучить. – И вот лирический герой А.С. приезжает в имение Ка́менку, или Каме́нку, я уж не знаю, как точно… Там живет его приятель, генерал Давыдов, милейший человек, которого он тотчас обзовет: «рогоносец величавый, всегда довольный сам собой, своим обедом и женой». У Давыдова жена – прелестная женщина, урожденная герцогиня. Из знаменитого французского рода герцогов де Грамон – Аглая Антоновна. Что делает повеса А.С.? Он ее соблазняет и даже пишет стихи по этому поводу:
Но скука, случай, муж ревнивый…Безумным притворился я,И притворились вы стыдливой,Мы поклялись… потом… увы!Потом забыли клятву нашу;Клеона полюбили вы,А я наперсницу Наташу.Она его бросила. Посмела бросить!! Но лирический герой молодого Пушкина, как Вальмон из «Опасных связей», про которого ты тоже ничего не знаешь, этого не прощает! Он начинает отвратительно мстить женщине, с которой был близок. Он мстит бессердечно. Он ославил ее в чудовищной эпиграмме, где упоминает ее подлинное имя!
Иной имел мою АглаюЗа свой мундир, за черный ус,Другой за деньги – понимаю,Другой – за то, что был француз.Клеон – умом ее стращая,Дампе – за то, что сладко пел.Теперь скажи, моя Аглая,За что твой муж тебя имел?Таков его лирический герой! А каково… каково его кредо? Я обязан тебе рассказать:
Приятно дерзкой эпиграммойВзбесить оплошного врага…(Враг – это муж.)
Приятно зреть, как он упрямоСклонив бодливые рога,Упорно в зеркало глядитсяИ узнавать себя стыдится.Приятней, если он, друзья,Завоет сдуру: «Это я!»Но отправлять его к отцамЕдва ль приятно будет вам.Ты понял, что произошло? А.С. предсказал будущее. Все это случится с ним самим. Это история, отрок, об обязательном возмездии за Слово. К нему явится как бы его овеществленное Слово в лице Дантеса. Сам Пушкин в это время уже другой, он написал «Пророка». Но Командор неминуем. И лирический герой Пушкина, воплощенный в лице Дантеса, убивает мудреца Пушкина! А теперь иди, и… забудь все, что я тебе говорил.
И они остаются одни.
А я… я вновь перемещаюсь под дверь – слушать и запоминать.
Великий Сергей Митрофанович
Олеша и отец ударяются в воспоминания.
Олеша: «Королем метафоры был Хлебников».
Я уже знаю о Хлебникове. Я пытался читать его стихи, но ничего не понял. Но я знаю: он великий поэт. Отец объяснил мне: он поэт для поэтов. И только истинным поэтам открывается его красота!
Олеша рассказывает, как Хлебников читал стихи: «Он был наказанием для устроителей вечеров. Прочтет первую строчку, остановится и задумчиво скажет: “И так далее…” И уйдет».
Теперь они переходят к его смерти. Отец рассказывает о дружбе Хлебникова с нашим знакомым Сергеем Митрофановичем. Оказывается, с Сергеем Митрофановичем переписывался некий художник, в доме которого и умер загадочный Хлебников. И у Сергея Митрофановича хранится дневник смерти «поэта для поэтов».
Сергей Митрофанович – давний знакомый нашей семьи. Но совсем недавно отец рассказал, что «наш Сергей Митрофаныч» – не просто Сергей Митрофаныч. Нет ни одного великого в Серебряном веке, с которым он не был бы дружен. Сергей Митрофаныч был другом любимого мною Блока, он был другом Розанова, другом Мережковского и так далее. И Есенин, приехав в Петербург, пошел сначала к Блоку, но от Блока – к Сергею Митрофанычу.
Сергей Митрофанович Городецкий. Уже в начале XX века имя его гремело. Когда Распутин явился в Петербург, Городецкий издал свою первую книгу «Ярь», которая сразу сделала его знаменитым.
«Он, – заключает Олеша, – недобиток…»
Смерть поэтов
Между тем отец начинает пересказывать Олеше письма художника, у которого жил Хлебников, – рассказ о гибели великого поэта. И я пытаюсь их запомнить. (Впоследствии Городецкий даст мне прочитать эти письма, я скопирую их и опубликую в своей книге «Наш Декамерон».)
Эти письма меня потрясли. Был тогда общепринятый миф о Луначарском – последнем просвещенном министре культуры, заботливом отце интеллигенции… И в 60-х, когда очередной полуграмотный министр культуры РСФСР Попов спросил у скульптора Вучетича, почему у его скульптуры «Родина-мать» открыт рот, тот мрачно ответил: «Она зовет Луначарского!»
Но в этих письмах был иной Луначарский.
Переписка начиналась с письма художника Петра Митурича, родственника Хлебникова, Городецкому. Митурич писал:
«Сообщаю Вам следующее: Виктор Владимирович Хлебников спустя неделю по прибытии в деревню Санталово Новгородской губернии тяжко захворал: паралич ног. Помещен мною в ближайшую больницу города Крестцы. Необходима скромная, но скорая помощь, ибо больница не может лечить его без немедленной оплаты за уход и содержание больного (больница переведена на самоснабжение), и второе – не располагает медицинскими средствами для лечения. Лично мы с женой не имеем средств оплатить эти расходы, и поэту грозит остаться без необходимой медицинской помощи. По мнению врача, ему нужно следующее: 1) 50 г йодистого кальция, 2) мягкий мужской катетер (для спуска мочи), 3) 150–200 довоенных рублей. Прошу Вас ускорить оповещение общества посредством печати о постигшем недуге Велимира Хлебникова и о том, что он не имеет абсолютно никаких средств к существованию. Такое положение материальной необеспеченности и неколебимой сосредоточенности на своем труде и привело его к настоящему положению. До последнего часа он приводил в окончательный порядок свой многолетний научный труд – исследование Времени “Доски Судьбы”…











