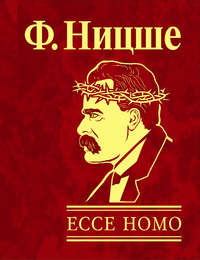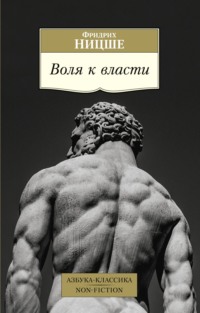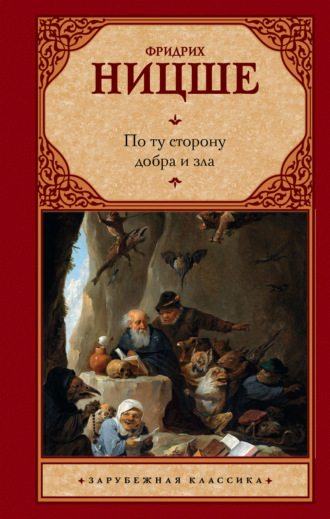
Полная версия
По ту сторону добра и зла
12
Касательно материалистической атомистики можно сказать, что она принадлежит к числу легче всего опровержимых теорий, и, вероятно, в настоящее время в Европе нет больше таких неучей среди ученых, которые признавали бы за нею кроме удобства и сподручности для домашнего обихода (именно, в качестве сокращения терминологии) еще какое-нибудь серьезное значение – благодаря прежде всего тому поляку Босковичу, который, совместно с поляком Коперником, был до сих пор сильнейшим и победоноснейшим противником очевидности. Тогда как именно Коперник убедил нас верить, наперекор всем чувствам, что земля не стоит непоколебимо, Боскович учил, что надо отречься от веры в последнее, что оставалось «непоколебимого» от земли, от веры в «вещество», в «материю», в остаток земного, в комочек – атом. Это был величайший триумф над чувствами из всех достигнутых доселе на земле. – Но нужно идти еще дальше и объявить беспощадную, смертельную войну также и «атомистической потребности», которая, подобно еще более знаменитой «метафизической потребности», все еще существует в опасном паки-бытии в таких областях, где ее никто не чует; нужно прежде всего доконать также и ту другую, еще более роковую атомистику, которой успешнее и дольше всего учило христианство, атомистику душ. Да будет позволено назвать этим словом веру, считающую душу за нечто неискоренимое, вечное, неделимое, за монаду, за atomon, – эту веру нужно изгнать из науки! Между нами говоря, при этом вовсе нет надобности освобождаться от самой «души» и отрекаться от одной из старейших и достойнейших уважения гипотез, к чему обыкновенно приводит неуклюжесть натуралистов, которые, как только прикоснутся к «душе», так сейчас же и теряют ее. Но путь к новому изложению и утонченной обработке гипотезы о душе остается открытым; и такие понятия, как «смертная душа», «душа как множественность субъекта» и «душа как общественный строй инстинктов и аффектов», с этих пор требуют себе права гражданства в науке. Готовясь покончить с тем суеверием, которое до сих пор разрасталось вокруг представления о душе почти с тропической роскошью, новый психолог, конечно, как бы изгнал самого себя в новую пустыню и в новую область недоверия, – возможно, что старым психологам жилось удобнее и веселее, – но в конце концов именно благодаря этому он сознает, что обречен на изобретения и – кто знает? – быть может, на обретения.
13
Физиологам следовало бы поразмыслить насчет взгляда на инстинкт самосохранения как на кардинальный инстинкт органического существа. Прежде всего нечто живое хочет проявлять свою силу – сама жизнь есть воля к власти: самосохранение есть только одно из косвенных и многочисленных следствий этого. – Словом, здесь, как и везде, нужно остерегаться излишних телеологических принципов! – одним из каковых является инстинкт самосохранения (мы обязаны им непоследовательности Спинозы —). Таково именно требование метода, долженствующего быть по существу экономностью в принципах.
14
Быть может, в пяти-шести головах и брезжит нынче мысль, что физика тоже есть лишь толкование и упорядочение мира (по нашей мерке! – с позволения сказать), а не объяснение мира; но, опираясь на веру в чувства, она считается за нечто большее и еще долго в будущем должна считаться за большее, именно, за объяснение. За нее стоят глаза и руки, очевидность и осязательность: на век, наделенный плебейскими вкусами, это действует чарующе, убеждающе, убедительно – ведь он инстинктивно следует канону истины извечно народного сенсуализма. Что ясно, что «объясняет»? Только то, что можно видеть и ощупывать, – до таких пределов нужно разрабатывать всякую проблему. Наоборот: как раз в противоборстве ощутимости и заключались чары платоновского образа мыслей, а это был благородный образ мыслей, и он имел место в среде людей, обладавших, быть может, более сильными и более взыскательными чувствами, нежели наши современники, однако видевших высшее торжество в том, чтобы оставаться господами этих чувств; и они достигали этого при посредстве бледной, холодной, серой сети понятий, которую они набрасывали на пестрый водоворот чувств, на сброд чувств, как говорил Платон. В этом одолении мира, в этом толковании мира на манер Платона было наслаждение иного рода, нежели то, какое нам предлагают нынешние физики, равным образом дарвинисты и антителеологи среди физиологов с их принципом «минимальной затраты силы» и максимальной затраты глупости. «Где человеку нечего больше видеть и хватать руками, там ему также нечего больше искать» – это, конечно, иной императив, нежели платоновский, однако для грубого, трудолюбивого поколения машинистов и мостостроителей будущего, назначение которых – исполнять только черную работу, он, может статься, и есть как раз надлежащий императив.
15
Чтобы с чистой совестью заниматься физиологией, нужно считать, что органы чувств не суть явления в смысле идеалистической философии: как таковые, они ведь не могли бы быть причинами! Итак, сенсуализм есть по крайней мере руководящая гипотеза, чтобы не сказать евристический принцип. – Как? а некоторые говорят даже, что внешний мир есть будто бы создание наших органов. Но ведь тогда наше тело, как частица этого внешнего мира, было бы созданием наших органов! Но ведь тогда сами наши органы были бы созданием наших органов! Вот, по-моему, полнейшая reductio ad absurdum, предполагая, что понятие causa sui есть нечто вполне абсурдное. Следовательно, внешний мир не есть создание наших органов —?
16
Все еще есть такие простодушные самосозерцатели, которые думают, что существуют «непосредственные достоверности», например «я мыслю» или, подобно суеверию Шопенгауэра, «я хочу» – точно здесь познанию является возможность схватить свой предмет в чистом и обнаженном виде, как «вещь в себе», и ни со стороны субъекта, ни со стороны объекта нет места фальши. Но я буду сто раз повторять, что «непосредственная достоверность» точно так же, как «абсолютное познание» и «вещь в себе», заключает в себе contradictio in adjecto: нужно же наконец когда-нибудь освободиться от словообольщения! Пусть народ думает, что познавать – значит узнавать до конца, – философ должен сказать себе: если я разложу событие, выраженное в предложении «я мыслю», то я получу целый ряд смелых утверждений, обоснование коих трудно, быть может, невозможно, – например, что это Я – тот, кто мыслит; что вообще должно быть нечто, что мыслит; что мышление есть деятельность и действие некоего существа, мыслимого в качестве причины; что существует Я; наконец, что уже установлено значение слова «мышление»; что я знаю, что такое мышление. Ибо если бы я не решил всего этого уже про себя, то как мог бы я судить, что происходящее теперь не есть – «хотение» или «чувствование»? Словом, это «я мыслю» предполагает, что я сравниваю мое мгновенное состояние с другими моими состояниями, известными мне, чтобы определить, что оно такое; опираясь же на другое «знание», оно во всяком случае не имеет для меня никакой «непосредственной достоверности». – Вместо этой «непосредственной достоверности», в которую пусть себе в данном случае верит народ, философ получает таким образом целый ряд метафизических вопросов, истых вопросов совести для интеллекта, которые гласят: «Откуда беру я понятие мышления? Почему я верю в причину и действие? Что дает мне право говорить о каком-то Я и даже о Я как о причине и, наконец, еще о Я как о причине мышления?» Кто отважится тотчас же ответить на эти метафизические вопросы, ссылаясь на некоторого рода интуицию познания, как делает тот, кто говорит: «Я мыслю и знаю, что это по меньшей мере истинно, действительно, достоверно», – тому нынче философ ответит улыбкой и парой вопросительных знаков. «Милостивый государь, – скажет ему, быть может, философ, – это невероятно, чтобы вы не ошибались, но зачем же нужна непременно истина?»
17
Что касается суеверия логиков, то я не перестану подчеркивать один маленький факт, неохотно признаваемый этими суеверами, именно, что мысль приходит, когда «она» хочет, а не когда «я» хочу, так что будет искажением сущности дела говорить: субъект «я» есть условие предиката «мыслю». Мыслится (Es denkt): но что это «ся» есть как раз старое знаменитое Я, это, выражаясь мягко, только предположение, только утверждение, прежде всего вовсе не «непосредственная достоверность». В конце же концов этим «мыслится» уже много сделано: уже это «ся» содержит в себе толкование события и само не входит в состав его. Обыкновенно делают заключение по грамматической привычке: «Мышление есть деятельность; ко всякой деятельности причастен некто действующий, следовательно…» Примерно по подобной же схеме подыскивала старая атомистика к действующей «силе» еще комочек материи, где она сидит и откуда она действует, – атом; более строгие умы научились наконец обходиться без этого «остатка земного», и, может быть, когда-нибудь логики тоже приучатся обходиться без этого маленького «ся» (к которому улетучилось честное, старое Я).
18
Поистине немалую привлекательность каждой данной теории составляет то, что она опровержима: именно этим влечет она к себе более тонкие умы. Кажется, что сто раз опровергнутая теория о «свободной воле» обязана продолжением своего существования именно этой привлекательности: постоянно находится кто-нибудь, чувствующий себя достаточно сильным для ее опровержения.
19
Философы имеют обыкновение говорить о воле как об известнейшей в мире вещи; Шопенгауэр же объявил, что одна-де воля доподлинно известна нам, известна вполне, без всякого умаления и примеси. Но мне постоянно кажется, что и Шоненгауэр сделал в этом случае лишь то, что обыкновенно делают философы: принял народный предрассудок и еще усилил его. Мне кажется, что хотение есть прежде всего нечто сложное, нечто имеющее единство только в качестве слова – и как раз в выражении его одним словом сказывается народный предрассудок, господствующий над всегда лишь незначительной осмотрительностью философов. Итак, будем же осмотрительнее, перестанем быть «философами» – скажем так: в каждом хотении есть, во-первых, множество чувств, именно: чувство состояния, от которого мы стремимся избавиться, чувство состояния, которого мы стремимся достигнуть, чувство самих этих стремлений, затем еще сопутствующее мускульное чувство, возникающее, раз мы «хотим», благодаря некоторого рода привычке и без приведения в движение наших «рук и ног». Во-вторых, подобно тому как ощущения – и именно разнородные ощущения – нужно признать за ингредиент воли, так же обстоит дело и с мышлением: в каждом волевом акте есть командующая мысль; однако нечего и думать, что можно отделить эту мысль от «хотения» и что будто тогда останется еще воля! В-третьих, воля есть не только комплекс ощущения и мышления, но прежде всего еще и аффект – и к тому же аффект команды. То, что называется «свободой воли», есть в сущности превосходящий аффект по отношению к тому, который должен подчиниться: «я свободен, «он» должен повиноваться», – это сознание кроется в каждой воле так же, как и то напряжение внимания, тот прямой взгляд, фиксирующий исключительно одно, та безусловная оценка положения «теперь нужно это и ничто другое», та внутренняя уверенность, что повиновение будет достигнуто, и все, что еще относится к состоянию повелевающего. Человек, который хочет, – приказывает чему-то в себе, что повинуется или о чем он думает, что оно повинуется. Но обратим теперь внимание на самую удивительную сторону воли, этой столь многообразной вещи, для которой у народа есть только одно слово: поскольку в данном случае мы являемся одновременно приказывающими и повинующимися и, как повинующимся, нам знакомы чувства принуждения, напора, давления, сопротивления, побуждения, возникающие обыкновенно вслед за актом воли; поскольку, с другой стороны, мы привыкли не обращать внимания на эту двойственность, обманчиво отвлекаться от нее при помощи синтетического понятия Я, – к хотению само собой пристегивается еще целая цепь ошибочных заключений и, следовательно, ложных оценок самой воли, – таким образом, что хотящий совершенно искренне верит, будто хотения достаточно для действия. Так как в огромном большинстве случаев хотение проявляется там, где можно ожидать и воздействия повеления, стало быть, повиновения, стало быть, действия, то видимая сторона дела, будто тут существует необходимость действия, претворилась в чувство; словом, хотящий полагает с достаточной степенью уверенности, что воля и действие каким-то образом составляют одно, – он приписывает самой воле еще и успех, исполнение хотения и наслаждается при этом приростом того чувства мощи, которое несет с собою всяческий успех. «Свобода воли» – вот слово для этого многообразного состояния удовольствия хотящего, который повелевает и в то же время сливается в одно существо с исполнителем, – который в качестве такового наслаждается совместно с ним торжеством над препятствиями, но втайне думает, будто в сущности это сама его воля побеждает препятствия. Таким образом, хотящий присоединяет к чувству удовольствия повелевающего еще чувства удовольствия исполняющих, успешно действующих орудий, служебных «под-воль» или под-душ, – ведь наше тело есть только общественный строй многих душ. L’effet c’est moi: тут случается то же, что в каждой благоустроенной и счастливой общине, где правящий класс отождествляет себя с общественными успехами. При всяком хотении дело идет непременно о повелевании и повиновении, как сказано, на почве общественного строя многих «душ», отчего философ должен бы считать себя вправе рассматривать хотение само по себе уже под углом зрения морали, причем под моралью подразумевается именно учение об отношениях власти, при которых возникает феномен «жизнь». —
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.