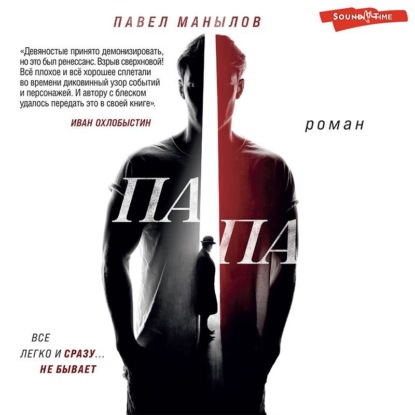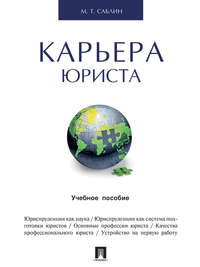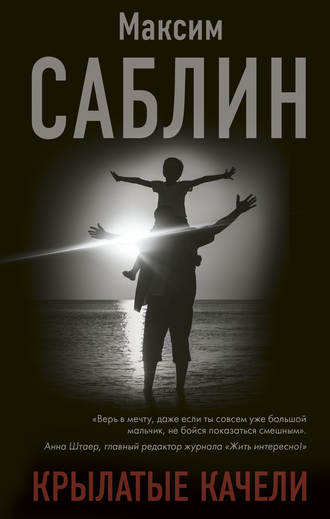
Полная версия
Крылатые качели
Заходила полная кудрявая женщина из бухгалтерии и требовала с него отчет по представительскому расходу. Заходил седовласый и почтенный коллега из отдела рисков, ревниво относившийся к тому, что Федор молод, и, стараясь скрыть снисходительность к его возрасту, требовал отчет, из серии: «Напиши что-нибудь о чем-нибудь». Бухгалтерию Федор направлял к Сирене, седовласого просил прислать письменный запрос.
Заходил Стукачев, женоподобный мужчина с манерной речью, который, как карикатурная лягушка, закатывал глаза. Фамильярно здороваясь, он оглядывал кабинет, шкаф, стол, кресло и спрашивал пустое: «Как дела? Что нового?», едва скрывая под всем этим недоброжелательство к тому, что этот кабинет занял Федор, а не Стукачев.
Федор все это видел, все знал, все умел решать. Единственное, чего он не мог, – это убедить жену отдать сына на секцию.
Ближе к трем, проклиная жену и тещу, Федор прибежал в кабинет Серафимова отпрашиваться. Рассматривая два ледоруба на стене, он рассказал свое дело. Шеф, в восьмидесятые заместитель министра юстиции СССР и известный альпинист, был сгорбленным ревматизмом стариком, еле передвигавшим ноги, но человеком весьма опытным и мудрым. Слушая рассказ Федора, он сидел за массивным дубовым столом и крошил в миниатюрное блюдечко белый хлеб. За спиной его висел портрет молодого Плевако, перед ним же, на столе, желтела деревянная клеточка, в которой суетилась белая мышь с красными глазами и длинным тревожным носом. Серафимов очень ее любил.
Выслушав Федора, Иван Иванович взглянул на него ясными голубыми глазами и без единого слова отпустил. Ради этой благожелательности и простоты Серафимова Федор готов был сворачивать горы.
Он сбежал по черной мраморной лестнице, выскочил из офиса и обнаружил, что на улице гроза. Ветер гнул и ворошил деревья. В небе клубились черные тучи, землю заливало косым сплошным дождем. Город ослеплялся вспышками и тут же оглушался щелчками грома, походившими на удар бича. Было темно, как ночью. Федор, перепрыгивая через бурлящие потоки воды и натянув пиджак на голову, подбежал к «гелендвагену», сел в него и поехал за Иннокентием.
13
Пелагея ждала его, похожая в черном японском халате на тонкий иероглиф счастья. Она прислонилась узкими лопатками к белой стене, сцепила руки на животе и своими большими ясными глазами смотрела на Федора. С кухни доносился аромат свежесостряпанных блинов и слышалось шипение раскаленной сковородки. Из гостиной доносился звук громко работающего телевизора – шла передача о мистике и кто-то говорил: «Я проснулся и увидел свет. Нет, я не пил!»
Федор бросил пиджак на желтую табуретку, снял промокшие туфли и носки и, приобняв жену, приоткрыл дверь в гостиную. На диване, держа на коленях толстенького Иннокентия, сидел тесть Федора, Дэв Медузов.
– У тебя рубашка мокрая. Снимай же, заболеешь! – улыбнулась жена.
Пелагея теплыми пальцами начала расстегивать Федору пуговицы и потянула за собой на кухню. Увидев на кухне тещу, Федор вздрогнул и застегнулся. Маленькая теща, с повязанным вокруг талии фартуком с желтой цаплей, напевала танго, топала в такт ножкой и переворачивала деревянной лопаткой блины. Завидев Федора, она не улыбнулась и не поздоровалась.
Пелагея села на табурет между красным кухонным шкафом и итальянским стеклянным столиком. Федор, не садясь, взял с тарелки блин и, взглянув на часы, заметил на манжете рядом с золотой запонкой грязь. Он показал Пелагее на пятно и тут же услышал высокий голос тещи. Человек-зло, казалось, даже спиной умела следить за всем происходящим.
– Мыть мужикам рубашки? Не для того ты рождена, дочь.
– Мам, мне не сложно, – ответила Пелагея, покраснев.
– А теперь скажиему! – продолжала человек-зло, поставив руки на стол перед Пелагеей. – Мальчик страшно кашлял весь день. Скажи ему, что Иннокентий не пойдет на велотрек.
Человек-зло имела странную привычку в присутствии Федора называть его в третьем лице. Пелагея, глядя на солонку, молчала. Федор ел блин и размышлял над услышанным. В другой раз, узнав о кашле, он отказался бы от затеи, но он еще помнил утренний разговор с Петькой, и особенно обидное «ты тряпка».
– Эрида Марковна, Иннокентий на велотрек пойдет, – сказал Федор, с силой вытирая салфеткой пальцы. – Во-первых, он не болен, это вранье. Во-вторых, это вопрос наш с Пелагеей, а не ваш. Оставьте в покоенашусемью. – Все же он не был настоящим интеллигентом и потому добавил: – А если вы и дальше будете морочить голову моейжене и мнемешать воспитывать сына, я вышвырну вас из квартиры!
– Каконсмеет так говорить со мной? – закричала юродивым голосом Недоумова, и ее раздражение передалось дочери.
– Не смей так говорить с мамой!
– Успокойся! – сказал Федор. –«Он»молчит.
«Он»уходит.
Федор с раздражением бросил салфетку и ушел переодеваться в спальню.
Эрида Марковна, оглянувшись на дверь, подтащила табурет и подсела к Пелагее.
– Ты хочешь, чтоб Иннокентий разбился? – сказала она тоном, который Пелагея ненавидела. – Ты хочешь, чтоб Иннокентий разбился, да? Ты хочешь, чтоб Иннокентий разбился? Разбился? О да, он разобьется. Конечно, он разобьется! Ты хочешь этого?
Ты хочешь, чтоб сын разбился?
– Не повторяй одно и то же, мама!
Пелагея взглянула в черное окно. За стеклом бушевали молнии. По карнизу скакали, отряхиваясь и резко дергая головами, воробьи. На белом подоконнике зеленел кактус. У Пелагеи защемило сердце. Только мама умела одним словом сделать ее несчастной.
– Да пусть ты хоть сто раз нарушишь договор, если это нужно для ребенка! – шептала мать, близко приблизив крашенные синим веки и красный рот. – Пелагея, ты мать и имеешь право. Мать – это бог. Пелагея, ты – бог. Никто не смеет пойти против матери. Мать делает только то, что сама считает правильным, и никого не слушает. Мать рушит преграды, какими бы высокими они ни были. Или ты хочешь, чтоб он разбился? Ты хочешь убить своего ребенка? А? Одумайся и слушай меня, поверь я много видела и много знаю. Разве я советовала плохое? Я могла бы бросить тебя, но я люблю тебя и люблю внука, и я не сдамся! – Мать обернулась и понизила голос: – Есть такой закон, по которому мать главнее отца. Точно тебе говорю. Ты можешь делать все что угодно, а муж обязан исполнять и ползать перед тобой. Разве он родил бы без тебя ребенка? Разве он мучился так, как ты? – Эрида Марковна сняла фартук и бросила на столешницу. – Посмотри нанего, на его самодовольное лицо. Да он смеется над тобой и твоими старыми родителями. Рубашки, видишь ли, ему надо стирать! Сначала рубашки, потом домашнее насилие! Да ладно, бог ему судья, раз нам достался этот крест – донесем. Но нельзя дать ему угробить бедного мальчика. – Эрида Марковна вздохнула. – Прекрати это! Прекрати, пожалуйста, если ты еще любишь свою старую мать. Или ты хочешь, чтоб Иннокентий разбился?
Эрида Марковна, косясь на проем двери, заговорила тихо.
– Сделай вот что, дочка. Когдаэтотпопытается забрать Иннокентия, ты должна вцепиться емув лицо. Он закроется руками, а ты оттолкнись, упади и закричи… Подрыгай ногами для виду!
– Прекрати мама! – взвизгнула Пелагея. Вскочив, она начала ходить по кухне, сжав голову тонкими белыми руками. – Ты говоришь ужасные вещи. У меня своя семья. Мы с Федором любим друг друга. Не вмешивайся. Уйди и забери папу. Неужели ты и вправду хочешь нас развести?
– Тихо. Тихо. Этот идет, – сказала Эрида Марковна.
14
Переодевшись, Федор бросил спортивную сумку в прихожей, а сам зашел в большую квадратную гостиную. Кивнув сыну и поздоровавшись с тестем, Федор прошел мимо стен, на которых были развешаны карандашные рисунки Иннокентия – пухлые ракеты, деревца с чудными фруктами, домик с окном и трубой, желтое солнце. Улыбнувшись, Федор заметил на одном рисунке Пелагею с круглым туловищем и самого себя квадратного. Оба они имели улыбки до ушей, ноги палочки и держали за руки веселого Иннокентия.
Незаметно вошли Пелагея и Эрида Марковна. Федор присел на корточки перед сыном и взъерошил ему светлые волосы.
– Поехали? – спросил Федор.
– Поехали!
Иннокентий дернулся, но тесть обнял его и не отпустил. Иннокентий обернулся и с удивлением посмотрел на дедушку. Федор с удивлением посмотрел на жену. Та, рассматривая красные ногти, сделала вид, что не заметила его взгляд. Федору вдруг так захотелось уйти, сделать так, как они хотят, зная, как все рады будут, что он это сделает. «Ты тряпка, – подумал он, вспоминая утренний разговор. – Если не сейчас, то никогда ты не вырастишь мужчину. Чертов Петька».
Федор вырвал Иннокентия из рук дедушки и направился в прихожую, как вдруг подскочила Пелагея и потянула сына обратно в гостиную. Федор потянул мальчика к себе. Толстенький Иннокентий повис между ними.
– Больно! – закричал он.
Иннокентия отпустили и начался спор. Сын вертел головой и думал о том, какие глупые эти взрослые, устроившие вселенскую проблему из-за пустяка. «И что такого, если я схожу с папой? – думал он, обнимая теплую маму за тонкую талию. – С каких пор детям запретили кататься на велосипедах?» Иннокентий не понимал, почему двое больших, добрых, улыбчивых, самых близких ему людей ссорятся. Почему его самая заботливая в мире бабушка носится вокруг, а умный дедушка нависает над папой с насмешливым лицом.
Иннокентий почему-то решил, что он виноват в этой ссоре, и связал это с тем, что забыл сменку в школу. Ну какая еще может быть причина, по которой мама всхлипывает, а папа стоит с красным лицом и что-то говорит ей своим уверенным, спокойным голосом. Папа не сдавался и просил отдать его, твердил, что он разрушитель преград и мировая воля. Мама молчала. Бабушка своим высоким голосом отвечала папе. Дедушка, как обычно, насмешливо улыбался и вставлял умные, рассудительные фразы. Все окружили папу и твердили ему свое, а он не соглашался. «Все-таки мой папа самый лучший!» – подумал Иннокентий. Из всех собравшихся здесь он верил только папе, хотя и не знал почему. Иннокентий пытался помирить родных и сказал об этом. Они выслушали с улыбкой и продолжили свое.
Иннокентий, поворачивая вихрастой головой то к маме, то к папе, решил, что сейчас он, как мужчина, скажет им: «Пожалуйста, не ссорьтесь! Я знаю, я разочаровал вас. Поэтому я ухожу!» Потом он представил, как возьмет рюкзак с хлебом, посох и уйдет от родителей один в тульский лес, к черным волкам, маленький, истощенный, и там… На этих мыслях ему стало жалко себя, так жалко, что он всхлипнул и решил пока в лес не уходить.
– Почему твои родители здесь? – говорил папа. – Пелагея, ты продумала целый план против меня? Семья – это мы с тобой. Пусть они уйдут и давай поговорим.
Неожиданно произошло быстрое движение, мама отлетела от папы и упала на спину. Папа растерянно посмотрел на нее и оглянулся на Иннокентия, словно ничего не понимал. Бабушка завизжала так громко, что Иннокентий закрыл уши. Мама встала и ушла в ванную, а папа сел на диван, усадил на колени Иннокентия и погладил его по голове. Руки папы дрожали.
Дедушка смешно выбежал за дверь и стал стучать во все двери. Повылазили соседки в бигуди и халатах, зашли в их квартиру, стали охать и ахать, кричать о домашнем насилии, трудной доле женщины и деспотах-мужчинах. Слова эти для Иннокентия были абракадаброй. Целая толпа набилась в их квартире, запахло шампунем, борщом и древесной стружкой от нахмуренного соседа-столяра. Все разволновались и ходили с серьезными лицами. Иннокентий был спокоен и с улыбкой наблюдал. Похоже, это был очередной спектакль взрослых. «Какие же взрослые актеры! – думал он. – И как глупы! Они же ничего не понимают в жизни».
Неожиданно в прихожую вошли двое полицейских с усталыми сонными лицами и цепкими взглядами. Иннокентий старался быть в гуще событий и подбежал к ним. Ему дали резиновую дубинку, и он играл с ней, залихватски стуча о ладонь. Светловолосый полицейский, глядя на маму, сощурил глаза и сжал губы. Он был недоволен мамой.
– Вы что, будете заявлять на мужа? – спросил тот маму.
– Конечно, она будет! – крикнула за маму бабушка.
Как всегда, бабушка всех успокоила, кроме папы, конечно. Почему-то папа не любил его любимую маленькую бабушку. Полицейские отвели папу на кухню, куда Иннокентию заходить запретили. Чтоб помочь папе, он придумал надеть красно-синий костюм Человека-паука и незаметно приполз туда, осторожно высовывая голову из-за холодильника. Полицейские сидели за стеклянным столом и осматривали папины руки.
– Костяшки не сбиты, – говорил, зевая, черноволосый.
«Что такое ко-стя-шки?» – подумал Иннокентий.
Светловолосый полицейский вдруг подмигнул мальчику, и тот сбежал в гостиную. Мама сидела в кресле, обмотав голову полотенцем. Вернулся папа. Обняв и поцеловав Иннокентия, он попрощался и ушел с полицейскими.
15
Федор с удивлением посмотрел на упавшую на пол жену и подумал, как она может так лгать. Приехали двое молодых уставших полицейских, у которых закончилась смена. Они цепко вглядывались в каждого, брали паспорта, проверили костяшки пальцев Федора. Костяшки не были сбиты. Попросили объяснений. Долго разбирались, что и как. По словам Недоумовой и Медузова выходило, что Федор избил жену. Он с удивлением глядел на тещу и тестя и думал, как они могут так лгать. Теща говорила много и говорила убедительно. Соседки, впрочем, не убеждались и смотрели на нее с подозрением, а на Федора с пониманием. Пелагея, опустив глаза, молчала.
Сам он был странно спокоен, говорить совершенно не хотел и чувствовал огромную усталость. Он только сказал, что закрыл свое лицо, что жена сама оттолкнулась, но сам понимал, что чужими глазами нельзя определить однозначно, толкнул он жену или нет.
– Заберите его! – крикнул тесть. – Я боюсь выходить из дома! Он устроит диверсию!
Полицейские, взглянув на Медузова, попросили Федора пару часов прогуляться и вышли вместе с ним. Пока он спускался в лифте с полицейскими, он даже был немного горд тем, что он не отступил, что произошло такое, что приехала полиция. Он сделался болтливым, рассказал зачем-то, что и он юрист, как и полицейские. Они были нормальные ребята.
– Пришел домой, хотел ребенка на велоспорт забрать. И ребенка не забрал, и в полицию попал! – повторял Федор, ухмыляясь и воспринимая себя бывалым, настоящим преступником. – Я всего лишь попросил позволить мне отвести ребенка на велоспорт, что такого я сделал? Такое придумала, не поговорила, ничего, зачем? Вот женщина!
– Ты договаривайся, чтоб не заявляла, – сказал, двигая большим кадыком, светловолосый.
В металлическом лифте было так уютно, что хотелось ехать в нем вечно.
– Да зачем ей заявлять? – возразил Федор, поморщившись от слова«заявлять». – Нет, она не заявит на меня. Да черт, я же и не бил ее! – добавил он.
«А вдруг заявит? – про себя подумал Федор, до того рассматривая все как своеобразную игру и не представляя, что может выйтиуголовное делопротив него от собственной жены, с которой он жил, ел, спал, ездил на курорты, родил сына. От светловолосой красавицы с красивыми серыми глазами и широкими скулами, похожей на шведку. – Нет, невозможно, чтоб она заявила».
Когда они выходили в светлый коридор с почтовыми ящичками, в лифт зашла женщина в черном платке и, как показалось Федору, осудительно посмотрела на него. «Все уже знают», – подумал он.
– Их трое, а ты один! – сказал со значением чернявый полицейский.
Асфальт вокруг дома блестел лужами. Ливень кончился. Федор вдохнул свежего, чуть влажного воздуха и осмотрелся. Небо было лазурным. Хрущевские девятиэтажки вокруг зажглись желтыми окнами, такими уютными и желанными. В желтых окнах Федор видел мужчин в майках, женщин в халатах, детишек за столиками. Мимо прошла, смеясь, компания девушек и парней. С футбольного поля громко кричали. Старые Черемушки жили обычной жизнью. Федору вдруг стало тоскливо и одиноко.
Светловолосый полицейский, дергая вверх кадыком, рассказал Федору анекдот про то, как муж, сидя на кухне с женой, попросил дать ему соли для супа, но оговорился и сказал: «Ты мне, сука, жизнь испортила».
Федор рассмеялся.
Оба полицейских, по мужскому обычаю, пожали ему руку и уехали. Федор, провожая их уазик, представлял, как светловолосый полицейский зайдет в управление внутренних дел на Новочеремушкинской (в том здании Федор получал загранпаспорт), будет в дежурке деловито заполнять бумаги о нем, говорить спокойно о постороннем, потом уедет в теплую квартирку с желтым абажуром и мягким креслом, к жене – сироте из детдома, которая сготовит ему борщ с дымком, ласково помассирует уставшие плечи. Сын запрыгнет к нему на колени, а светловолосый, выпив сто грамм после суток, ударит кулаком по столу и скажет: «Велоспорт!» И жена, девушка года по версии журнала Playboy, посмотрит на него влюбленным взглядом и скажет: «Да, мой господин!»
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Сюрпляс – сохранение равновесия на велосипеде без движения. Здесь и далее –примечания автора.
2
Данте. «Божественная» комедия.