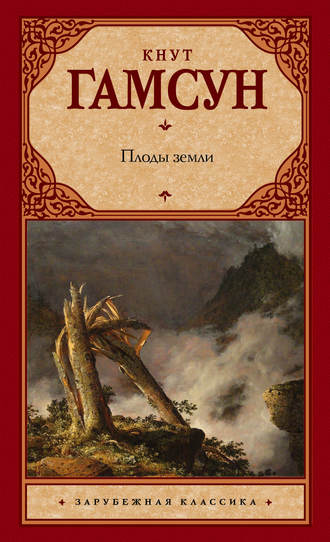
Полная версия
Плоды земли
Исаак набрался храбрости и пошел к нему.
– Дело Селланро – да, вот оно, вернулось недавно из министерства. Они там запрашивают разные сведения, ведь этот ваш Гейслер все запутал, – сказал ленсман. – Королевское министерство желает знать, нет ли на твоем участке больших, богатых морошкой болот? Есть ли строевой лес? Нет ли руды и разных металлов в окрестных горах? В деле упоминается большое горное озеро, водится ли в нем рыба? Правда, Гейслер привел кое-какие данные, но он ведь такой человек, что на него нельзя положиться, приходится все проверять заново. Я при первой же возможности приеду к тебе в Селланро, все осмотрю и произведу оценку. Сколько туда миль? Министерство требует настоящего межеванья, и, разумеется, надо нам его провести.
– Раньше второй половины лета ничего не получится, – сказал Исаак.
– Как-нибудь уж сделаем. Нельзя оттягивать ответ министерству до конца лета. На днях приеду. Заодно и продам от имени казны пахотный участок еще одному человеку.
– Не тому ли, что хочет купить участок на полдороге от меня?
– Не знаю, может, и ему. Он здешний, состоит у меня землемером и приставом. Он просил разрешения на покупку еще у Гейслера, но Гейслер отказал, объяснив свой отказ тем, что тот не способен обработать даже и двухсот локтей! Тогда этот человек написал самому амтману, и теперь дело переслали для отзыва ко мне. Уж этот мне Гейслер!
Ленсман Хейердал приехал к новоселам вместе с оценщиком Бреде; они промокли, пробираясь через болота, и уж совсем вымокли, когда отправились межевать границы по талому весеннему снегу в горах. В первый день ленсман проявил большое усердие, но на второй был утомлен, рассеян и по большей части не поднимался в гору, оставаясь внизу, только покрикивал да показывал Бреде, что делать. Уже и речи не было о том, чтоб «исходить горы вдоль и поперек», а морошковые болота, объяснил он, они самым тщательным образом обследуют на обратном пути.
Министерство указало выяснить много вопросов, должно быть, опять по какой-нибудь таблице. Единственный толковый вопрос был о лесе. На участке Исаака действительно рос строевой лес, но продажного строевого леса не было, разве что он годился для домашнего употребления. Но даже и будь здесь настоящий строевой лес, кто повезет его на продажу за столько миль? Разве что такой мельничный жернов вроде Исаака, который всю зиму возил в село бревна, получая в обмен доски и тес.
Оказалось, что этот замечательный Гейслер представил доклад, которым никак нельзя было пренебречь. И вот новый ленсман изо всех сил старался поймать его на чем-нибудь и найти хоть какую ошибку, но в конце концов махнул на все рукой. Он только чаще, чем Гейслер, советовался со своим землемером и оценщиком, во всем полагаясь на его слова, а оценщик, должно быть, переменил свое отношение и усвоил себе другую точку зрения с тех пор, как сам сделался покупателем казенных земель.
– И что ты думаешь о цене? – спросил ленсман.
– Пятьдесят далеров за глаза для всякого, кто захочет купить, – ответил оценщик.
Ленсман изложил это решение красивыми словами. Гейслер писал: «Владельцу земли придется платить ежегодный налог, и он не видит для себя возможности заплатить в качестве покупной цены больше пятидесяти далеров, с рассрочкой на десять лет. Казна вольна или согласиться на его предложение, или лишить его земли и плодов его труда». Хейердал написал: «Покупщик почтительно ходатайствует пред высоким министерством о разрешении сохранить за собой землю, которая не принадлежит ему, но в которую он вложил значительный труд, за цену 50 (пятьдесят) далеров, выплачиваемую по благоусмотрению министерства».
– Думаю, мне удастся сохранить за тобой участок, – сказал ленсман Хейердал Исааку.
VI
Сегодня старого быка уведут со двора. Он превратился в сущее чудовище, да и содержать его стало чересчур дорого; Исаак решил отвести его в село, сбыть кому-нибудь и купить вместо него подходящего молодого бычка.
А затеяла все это Ингер, и Ингер, конечно, знала, что делала, выпроваживая Исаака из дому именно сегодня.
– Коли уж идти, так нынче, – сказала она. – Бык откормлен, весной на кормленую убоину хорошая цена, можно отправить его в город, а там дают страсть какие цены.
– Да, да, – ответил Исаак.
– Вот только не кинулся бы он на тебя дорогой.
На это Исаак ничего не ответил.
– Впрочем, он целую неделю пасся на воле, огляделся и приобвык чуток.
Исаак промолчал. Но заткнул за пояс большой нож и вывел из хлева быка.
Вот это бык так бык, здоровенный, страшный, бока так и трясутся на ходу. Ноги короткие; на бегу ломает грудью кустарники, чисто паровоз. Шея мощная до безобразия, в этой шее живет слоновья сила.
– Только бы он на тебя не кинулся, – сказала Ингер.
Исаак ответил, помолчав:
– Ну что ж, тогда заколю его дорогой и отнесу в село мясо.
Ингер садится на крыльце. Ее мучают боли, лицо горит, но до ухода Исаака она держится на ногах; но вот он скрылся в лесу с быком, и Ингер громко стонет. Маленький Элесеус спрашивает:
– Маме больно?
– Да, очень.
Он подражает матери, хватается за спину и стонет. Малютка Сиверт спит.
Ингер ведет Элесеуса в горницу, усаживает на пол, дает игрушек, а сама ложится в постель. Пришел ее час. Она все время в полном сознании, следит за Элесеусом, бросает взгляд на стену, смотрит, который час. Она не кричит, почти не шевелится; в утробе у нее идет борьба, и внезапно бремя выскальзывает наружу. Почти в ту же минуту она слышит незнакомый крик, тоненький жалобный голосок, и, не в силах сохранять спокойствие, встает и смотрит на постель. Что же она видит? Лицо ее мгновенно становится серым, теряя всякое выражение, всякий смысл. Из груди вырывается стон, какой-то неестественный, нечеловеческий, похожий на рвущийся из нутра вой.
Она опускается на постель. Проходит минута, но покой не наступает, слабый писк на постели становится громче, она снова встает и смотрит: о Господи, хуже не придумаешь, никакой милости – ребенок в довершение всего девочка!
Исаак, должно быть, успел отойти от дому всего на полмили, едва ли миновал час после его ухода со двора. Десяти минут хватило на то, чтоб произвести дитя на свет и убить…
Исаак вернулся домой на третий день, ведя на привязи тощего молодого бычка, едва передвигавшего ноги; оттого так много времени ушло на дорогу.
– Ну как, все обошлось? – спросила Ингер, еще очень слабая и больная.
Все обошлось сносно. Бык вконец взбесился на последней полмиле от села, Исааку пришлось привязать его и сбегать за подмогой. Когда он вернулся, бык порвал привязь, и его целый час не могли найти. Ну да все устроилось, торговец, скупавший мясо для города, дал хорошую цену.
– А вот и новый бык, – сказал Исаак, – пусть дети подойдут и посмотрят!
Все с тем же неизменным интересом к каждому новому животному, Ингер осмотрела быка, ощупала его, спросила о цене; маленького Сиверта посадили ему на спину.
– А мне жалко старого быка, – сказала Ингер, – он был такой гладкий и умный. Хоть бы уж они зарезали его как следует!
Шли дни, заполненные обычной работой по хозяйству, скотина гуляла на воле, в пустом хлеву прорастал в ящиках и лукошках картофель, предназначенный для посадки. В этом году Исаак посеял ячменя больше прежнего и приложил все усердие, чтоб хорошенько запахать его в землю, разбил грядки для моркови и репы, а Ингер посеяла семена. Все шло по-старому.
Какое-то время Ингер носила на животе торбу с сеном, чтоб казаться толще, постепенно она уменьшала количество сена, а там и вовсе бросила торбу. В один из дней Исаак наконец заметил перемену и с удивлением спросил:
– Что же это, разве нынче ничего не будет?
– Нет, – ответила она, – не будет.
– Да ну. Отчего же?
– Так уж вышло. Неужто ты надумал распахать все, сколько глаз хватает?
– Скинула, что ли? – спросил он.
– Да.
– Так. А сама-то не хвораешь?
– Нет. Я все думаю, хорошо бы нам завести свинью.
Неповоротливый умом, Исаак ответил спустя минуту:
– Да, свинью… я и сам подумываю о ней каждую весну. Но покамест у нас не будет много картошки да ячменя, нам ее не прокормить. Посмотрим, что Бог даст нынче.
– А уж как бы хорошо иметь свинью!
– Да.
Дни проходят, побрызгивает дождь, нивы и луг чудесно зеленеют, нынче будет урожай! Мелкие и крупные события сменяют одно другое, это – еда, сон и работа, это – воскресенья с умыванием лица и расчесыванием волос. Исаак сидит в новой красной рубахе, вытканной и сшитой Ингер. Но вот размеренная жизнь потревожена крупным происшествием: где-то в скалах затерялась овца с ягненком, остальные овцы вернулись вечером домой, и Ингер сейчас же хватилась двух пропавших; Исаак отправляется на поиски. И первая мысль Исаака: раз уж случилась беда, хорошо, что случилась она в воскресенье и ему не нужно отрываться от работы. Он ищет много часов, выгон огромный, он ходит и ходит; дома все в волненье, мать коротко успокаивает детей: две овцы пропали, тише вы! Все охвачены тревогой, вся маленькая семья, даже коровы и те понимают, что происходит что-то необычное, и тревожно мычат, так как Ингер время от времени выходит во двор и громким голосом кричит в сторону леса, хотя скоро уж ночь. Это целое событие в глуши, несчастье для всей округи. Уложив детей спать, Ингер тоже отправляется на поиски. Изредка она аукает, но не получает ответа, должно быть, Исаак зашел очень далеко.
Господи, куда ж это подевались овцы, что с ними приключилось? Уж не медведь ли их задрал? А может, волк забежал из Швеции или Финляндии? Да ничего подобного. Когда Исаак находит наконец овцу, оказывается, что она завязла в расщелине, у нее переломана нога и распорото вымя. Похоже, она попала в расщелину много часов назад, потому что, хотя и поранена довольно сильно, выщипала траву кругом себя до самой земли. Исаак вытаскивает овцу из расщелины, и она сразу начинает щипать траву. Ягненок тут же принимается сосать мать, и раненому вымени сущее лекарство, что оно опрастывается.
Исаак набирает камней и заваливает опасную расщелину, предательскую расщелину; не будет она больше ломать овцам ноги! Он снимает с себя ременные подтяжки, обвязывает ими овцу, туго притянув порванное вымя. Потом вскидывает овцу на плечо и идет домой. Ягненок бежит следом.
А дальше? Лучинки и просмоленные тряпицы. Через несколько дней овца начинает лягаться больной ногой, потому что рана затягивается, излом срастается. Так все и налаживается – до какого-нибудь нового происшествия.
Будничная жизнь, события, целиком занимающие новоселов. О, это вовсе не мелочи, это судьба, сама жизнь, от этого зависит счастье, радость, благополучие.
В промежутке между полевыми работами Исаак обтесывает новые бревна, – наверное, опять что-то задумал. Кроме того, он выламывает подходящие камни и приносит во двор; натаскав достаточно камней, складывает их грядкой. Будь это год назад или около того, Ингер заинтересовалась бы и стала бы добиваться, что такое затевает муж, но теперь она большей частью занимается своим делом и вопросов не задает. Ингер работает так же усердно, как и прежде, держит в порядке дом, детей и скотину, но она начала петь, чего раньше за ней не водилось; учит Элесеуса вечерним молитвам, этого раньше тоже не было. Исааку не хватает ее вопросов, ее любопытство и похвалы давали ему счастье и сознание своей необыкновенности, теперь она проходит мимо и не замечает, как он убивается на работе. «Должно быть, она все-таки расстроилась в последний раз!» – думает он.
Опять приходит в гости Олина. Будь все как в прошлом году, ее встретили бы с радостью, нынче не то. Ингер с первой же минуты встречает ее недружелюбно; неизвестно по какой причине, но Ингер относится к ней враждебно.
– А я-то думала, опять попаду кстати, – деликатно замечает Олина.
– Как так?
– Да ведь надо бы крестить третьего. Разве нет?
– Нет, – отвечает Ингер, – ради этого тебе не стоило беспокоиться.
– Вот оно что!
Олина принимается расхваливать мальчиков, как они выросли, какие стали хорошенькие, Исаака, который распахал столько земли и опять как будто что-то строит, – просто чудеса, другого такого двора и не найти!
– Скажи ты мне, что ж такое он строит?
– Не знаю, спроси у него сама.
– Нет, – говорит Олина, – неудобно мне. Я только хотела посмотреть, как вы все здесь поживаете, потому что это для меня большая радость. Ну, про Златорожку-то я не стану и спрашивать и поминать, она попала куда следовало!
Некоторое время проходит в дружной болтовне, и Ингер уже не так сердита. Когда часы на стене начинают отбивать свои гулкие удары, на глазах у Олины выступают слезы, в жизни она не слышала такого боя – чисто орган в церкви! Ингер снова преисполняется щедростью и великодушием к своей бедной родственнице и говорит:
– Пойдем в клеть, покажу тебе свою тканину!
Олина проводит у них весь день. Она разговаривает с Исааком и расхваливает все его дела.
– Я слыхала, ты откупил по миле во все стороны, неужто нельзя было получить задаром? Кто это тебе позавидовал?
Исаак слышит похвалы, которых ему так недоставало, и опять чувствует себя человеком.
– Я у правительства откупил землю, – отвечает он.
– Ну да, ну да, только оно могло бы и не обдирать тебя, это самое правительство! Что это ты строишь?
– Сам не знаю. Так, пустяки.
– И все-то ты строишь! У тебя и двери крашеные, и часы с боем на стене, должно быть, надумал построить чистую избу?
– Будет тебе чепуху городить! – отвечает Исаак. Но он польщен и говорит Ингер: – Сварила бы каши на сливках для гостьи.
– Нету сливок-то, – отвечает Ингер, – я только что сбила из них масло.
– Вовсе это и не чепуха, да ведь я женщина простая, вот мне и интересно, – спешит вставить Олина. – А если это не чистая изба, тогда, значит, огромный домище – для всего твоего добра. У тебя ведь и поля, и луга, и все остальное течет молоком и медом, чисто в Библии.
Исаак спрашивает:
– А в ваших местах какие виды на урожай?
– Да ничего себе. Только бы Господь не спалил его и нынче, ох, грехи мои тяжкие! Все в Его воле и власти. Но такого замечательного урожая, как у вас, в наших местах и в помине нет, куда там!
Ингер расспрашивает про остальную родню, в особенности про дядю Сиверта, общинного казначея, он гордость семьи, у него и сети, и невода, он уж и сам не знает, что ему делать со всеми своими богатствами. Во время этого разговора Исаак отходит все дальше на задний план, о его новых строительных затеях и вовсе позабывают. Под конец он не выдерживает и говорит:
– Раз уж тебе непременно хочется знать, Олина, так я хочу построить небольшой овин с гумном.
– Так я и думала! – отвечает Олина. – Люди, которые с умом, всегда все наперед обдумывают и все в голове держат. Речь, понятно, не о горшке и не о кружке, которые не ты выдумал. Стало быть, говоришь, овин с гумном?
Исаак – он что взрослый ребенок, ему не устоять перед лестью Олины, и он сразу попадается на удочку.
– Что касаемо до нового строения, то в нем будет гумно, так я себе наметил в мыслях, – говорит он.
– Гумно! – восторженно произносит Олина и качает головой.
– На что же нам ячмень в поле, когда его нельзя обмолотить?
– Вот это самое я и говорю: ты все обмозговываешь в голове.
Ингер опять нахмурилась, беседа мужа с гостьей, видимо, раздражает ее, она неожиданно говорит:
– Каши на сливках? Где же я тебе возьму сливок? Уж не в речке ли?
Олина чует опасность.
– Ингер, милая, Господь с тобой, о чем это ты? Какая еще каша на сливках? Ты и не поминай про нее! Это мне-то, которая побирается по дворам!
Исаак сидит некоторое время молча, потом говорит:
– И чего же это я расселся, мне ведь надо камни ломать для стены!
– Да уж, немало камней надо на такую стену!
– Камней-то? – отвечает Исаак. – Да сколько ни таскай, все вроде как мало!
Исаак уходит, и между женщинами снова воцаряется согласие, у них столько разговоров о деревенских делах, только часы знай бегут. Вечером Олине показывают, как выросло стадо – две коровы, да бык, да два теленка, да множество коз и овец.
– Где ж этому конец?! – вопрошает Олина, возводя глаза к небу.
Она остается у них ночевать.
А на следующий день уходит. Ей опять дают с собой узелок, и поскольку Исаак работает на каменоломне, она делает небольшой крюк, чтоб не попасться ему на глаза.
Через два часа Олина возвращается в усадьбу; войдя в горницу, она спрашивает:
– А где Исаак?
Ингер занята стиркой. Она знает, что Олине не миновать было пройти мимо Исаака и детей в каменоломне, и сразу чует беду.
– Исаак? На что тебе Исаак?
– Как на что! Да ведь я с ним не попрощалась.
Молчание. Олина вдруг бессильно опускается на скамью, словно ноги ее не держат. Еще чуть-чуть, и она грохнется в обморок – по всему видать, ей не терпится сообщить что-то из ряда вон выходящее.
Не в силах сдерживаться, Ингер поворачивает к ней полное бешенства и страха лицо.
– Ос-Андерс принес мне от тебя поклон, – говорит она. – Нечего сказать, хороший поклон!
– А что?
– Зайца.
– Да ну! – с удивительной кротостью роняет Олина.
– Не вздумай отпираться! – кричит Ингер, дико сверкая глазами. – Не то заткну тебе глотку вальком! Вот тебе!
Неужели ударила? То-то и оно. И когда Олина от первого удара не падает, а, наоборот, вскакивает и кричит:
– Берегись! Я знаю, что я про тебя знаю! – Ингер снова колотит Олину вальком и валит ее на пол, подминая под себя и давя коленками.
– Ты что же, решила убить меня? – спрашивает Олина. Прямо над собой она видит ужасный рот с заячьей губой, над ней нависла высокая крепкая женщина с тяжелым вальком в руке. Тело у Олины горит от ударов, она вся в крови, но продолжает визжать и не думает сдаваться: – Не иначе как ты решила убить меня!
– Да, решила, – отвечает Ингер и опять бьет ее. – Вот тебе! Забью до смерти!
Она совершенно уверена: Олина знает ее тайну, а остальное ей безразлично.
– Вот тебе по рылу!
– По рылу? Это у тебя рыло! – стонет Олина. – Сам Господь вырезал на твоем лице крест!
Справиться с Олиной трудно, очень трудно, Ингер поневоле останавливается, ее удары ни к чему не приводят, они только утомляют ее. Но она продолжает грозить Олине, тычет вальком прямо ей в глаза, она еще задаст ей, так задаст, что она и своих не узнает!
– Куда подевался мой косарь, вот я сейчас покажу тебе!
Она встает, словно в поисках ножа, но яростный запал уже прошел, и она только с ожесточением ругается. Олина поднимается с пола и садится на скамейку, она вся в крови, лицо желто-синее, распухшее; откинув с лица волосы, она оправляет на голове платок, отплевывается; губы у нее вздулись.
– Тварь ты этакая! – говорит она.
– Рыщешь по лесу, вынюхиваешь, – кричит Ингер, – вот на что ты потратила это время, все-таки разыскала могилку. Но лучше бы ты заодно вырыла могилу и для себя.
– Ну, уж теперь погоди! – отвечает Олина, пылая жаждой мести. – Больше я тебе ничего не скажу, но уж не видать тебе горницы с клетью и часов с музыкой!
– Это не в твоей власти!
– А уж об этом мы с Олиной позаботимся!
Обе женщины кричат что есть мочи. Олина не так груба и голосиста, о нет, она почти кротка в своей жестокой злости, но въедлива и страшна:
– Куда это мой узелок подевался, не иначе как оставила его в лесу. Можешь взять назад свою шерсть, не хочу я ее брать!
– А-а, ты, может, думаешь, что я ее украла?
– Ты сама знаешь, что сделала!
Они опять кричат. Ингер считает необходимым уточнить, с которой из своих овец она настригла эту шерсть, Олина спрашивает кротко и ласково:
– Пускай так, но почем мне знать, откуда у тебя взялась эта первая овца?
Ингер называет место и человека, у которого паслись ее первые овцы с ягнятами.
– Заткнула бы лучше свою пасть! – грозит она.
– Ха-ха-ха, – усмехается Олина. У нее на все готов ответ, и она не сдается: – Мою пасть? Вспомни-ка лучше про свою! – Она тычет пальцем в уродливое лицо Ингер, обзывая ее пугалом для Бога и людей. Ингер вся кипит от ярости и, так как Олина толстая, обзывает ее в ответ жирной тетехой.
– Эдакая подлая жирнюга! Ты еще получишь от меня благодарность за зайца, которого ты мне послала!
– За зайца! Да пусть это будет самый большой мой грех! Какой он был, этот заяц?
– Какой бывает заяц?
– Аккурат как ты. Точь-в-точь. Не надо бы тебе смотреть на зайцев.
– Убирайся! – кричит Ингер. – Это ты подослала Ос-Андерса с зайцем. Я упеку тебя на каторгу!
– На каторгу! Ты и в самом деле упомянула каторгу?
– Ты завидуешь мне во всем, прямо лопаешься от зависти, – продолжает Ингер. – Ты глаз не сомкнула с тех пор, как я вышла замуж и заполучила Исаака и все, что у меня есть! Господи Боже, Отец Небесный, и чего тебе от меня надо? Разве я виновата, что твои дети нигде не могут устроиться и никуда не годятся? Невмоготу тебе видеть, что мои дети здоровы, красивы и имена у них благороднее, чем у твоих, и разве моя в том вина, что они красивее и лицом и телом, чем твои!
Если что и могло взбесить Олину, так именно эти слова. У нее было много детей, вышли они такие, какие уродились, но она превозносила и расхваливала их, приписывая им достоинства, каких они вовсе не имели, и скрывая их недостатки.
– Что это ты мелешь? – ответила она Ингер. – Другая бы от стыда давно провалилась сквозь землю! Мои дети, да они супротив твоих – все равно что светлые ангелы Божьи. И ты еще смеешь говорить о моих детях? Сызмала все семеро были созданья Божьи, а теперь все уже большие и взрослые. Не твоя это забота!
– А твоя Лиза разве не угодила в тюрьму? – спрашивает Ингер.
– Она ничего не сделала плохого, она была невинна, как цветок, – отвечает Олина. – К тому же она замужем в Бергене и, не в пример тебе, ходит в шляпке!
– А что произошло с твоим Нильсом?
– Очень мне надо отвечать тебе. У тебя-то вон один лежит в лесу, что ты с ним сделала? Убила!
– Замолчи и убирайся вон! – вопит Ингер и опять бросается на Олину.
Но Олина не прячется, даже не встает. Эта неустрашимость, смахивающая на ожесточение, снова парализует Ингер, и она только говорит:
– Придется мне, видать, разыскать косарь!
– Не трудись, – советует Олина. – Я и сама уйду. Но коли уж ты дошла до того, что выгоняешь своих родичей, то кто ты после этого – просто тварь!
– Ступай, ступай уж!
Но Олина не уходит. Женщины еще долго бранятся, и всякий раз, как часы бьют полный час или половину, Олина язвительно улыбается, приводя тем самым Ингер в бешенство. В конце концов обе несколько успокаиваются, и Олина собирается уходить.
– Путь у меня длинный и ночь впереди, – говорит она. – Вот жалость-то, надо было мне захватить с собой еды из дому.
Ингер ничего на это не отвечает, она пришла в себя и наливает воды в чашку.
– На, оботрись, если хочешь! – говорит она Олине.
Олина понимает, что перед уходом надо привести себя в порядок, но, не зная, где у нее кровь, обтирает не те места. Ингер стоит молча, глядя на нее.
– Вот здесь, и на виске тоже! – говорит она. – Нет, на другом, ведь я же показываю!
– Почем мне знать, на какой висок ты показываешь! – отвечает Олина.
– И на губах тоже. Да ты что, никак, боишься воды? – спрашивает Ингер.
Кончается тем, что Ингер собственноручно умывает избитую противницу и швыряет ей полотенце.
– Что это я хотела сказать, – совершенно мирным тоном начинает Олина, утираясь. – Как-то Исаак и дети перенесут это?
– Разве он знает? – спрашивает Ингер.
– Неужто нет! Он подошел и увидел.
– И что сказал?
– Что он мог сказать! Лишился языка, как и я.
Молчание.
– Это ты во всем виновата! – жалобно вскрикивает Ингер и разражается слезами.
– Дай Бог, чтоб у меня не было других грехов.
– Я спрошу у Ос-Андерса, можешь быть уверена!
– Спроси, спроси!
Они беседуют вполне спокойно, и, кажется, у Олины немного поубавилось жажды мести. Она политик высокого класса и привыкла находить нужные решения, теперь она выказывает даже некоторое сострадание: если дело это выплывет наружу, очень жалко будет Исаака и детей.
– Да, – говорит Ингер и плачет еще сильнее. – Я все думаю и думаю об этом днем и ночью.
Олина тут же выступает в роли спасительницы, предлагая свою помощь. На все то время, что Ингер будет сидеть в тюрьме, она поселится в усадьбе.
Ингер уже не плачет, она разом прислушивается, обдумывая это предложение.
– Да не будешь ты смотреть за детьми.
– Это я-то не буду смотреть за детьми? Да что ты ерунду городишь!
– Прямо уж ерунду!
– Если у меня к чему и лежит сердце, так именно к детям.
– Да, к твоим собственным, – говорит Ингер, – а уж как ты станешь обращаться с моими? Как подумаю, что ты послала мне зайца, чтоб погубить меня, то одно только и могу сказать: ты большая грешница.













