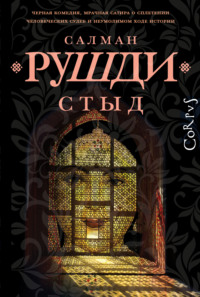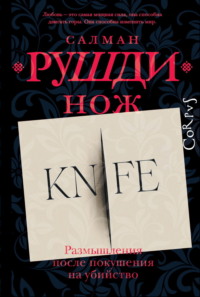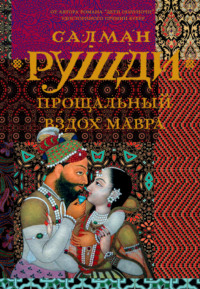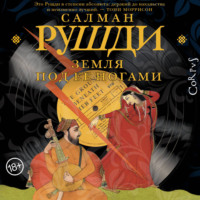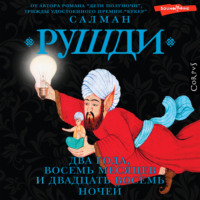Полная версия
Золотой дом
Когда еще в детстве он собирался с духом и задавал отцу и мачехе вопрос о той женщине, что дала ему жизнь, отец просто вскидывал руки вверх и выходил из комнаты. Мачеха сердилась. “Оставь это! – крикнула она мальчику в некий роковой день. – Никому не интересна эта женщина. Она уехала, заболела и умерла”.
Каково это – быть Маугли, сыном женщины, которая никому не интересна, которая была столь хладнокровно выброшена его отцом и где‑то во тьме внешней погибла одной из тех тысяч и мириад смертей, что постигают забытых всеми бедняков? Впоследствии, когда клятва молчания была нарушена, я услышал от Апу шокирующую историю. Настал момент, когда у старика что‑то разладилось в отношениях с их матерью. Он гневался, она кричала в ответ. Тут я выпрямился и стал вслушиваться, потому что впервые в моих разговорах с Голденами женщина без имени и лица – супруга Нерона (с древности это звание не сулило счастья) выступила на авансцену и открыла рот, а также потому, что, согласно этому рассказу, Нерон орал и вопил, и она вопила и орала в ответ. Это не было похоже на того Нерона, какого я знал – того, кто держал свой гнев под контролем и позволял прорываться только самохвальным монологам.
Так или иначе, после взрыва семья разделилась надвое. Старшие мальчики встали на сторону матери, а Дионис Голден принципиально держался отца и убедил патриарха в том, что его жена, мать Пети и Апу, не в состоянии вести хозяйство. Нерон призвал супругу и забрал у нее ключи. На короткое время Д стал тем, кто всеми командует, заказывает продукты и решает, какую еду готовить на главной кухне и в подсобной. Публичное унижение, лишение чести: понятие этой женщины о чести было неразрывно связано с тем железным кольцом, величественным О диаметром в три дюйма, с которого свисало примерно двадцать ключей, больших и малых, ключ от кладовой, ключи от подвальных сейфов, где хранились золотые слитки и другие секреты богачей, от разных потайных уголков по всему дому, где она скрывала то, о чем ведала только она: старые любовные письма, свадебные украшения, старинные шали. Это был символ ее домашней власти, ее гордость и самоуважение были подвешены к кольцу вместе с ключами. Она была госпожой ключей и без этой роли превращалась в ничто. Через две недели после того, как муж велел ей сдать кольцо, низложенная хозяйка дома попыталась лишить себя жизни. Таблетки были проглочены; Апу и Петя нашли ее, упавшую у подножья мраморной лестницы; примчалась скорая. Она вцепилась в руку сына, и люди из скорой сказали Апу: вы поедете с нами, это важно, что она держится за вас, это она держится за жизнь.
В скорой парамедики разыгрывали доброго и злого копа.
– Сука придурочная, всех родных перепугала, делать нам больше нечего, нас вызывают на серьезные дела, настоящие травмы, неотложные случаи, а не самоувечья, надо было бросить тебя умирать.
– Нет-нет, не ругай ее, бедняжку, она, конечно же, была в таком горе, все будет хорошо, милочка, мы о тебе позаботимся, все наладится, тучи рассеются.
– Какие к черту тучи, ты на дом посмотри, экие деньжищи, эти люди считают нас за прислугу.
– Не слушай его, милочка, он всегда такой, мы о тебе позаботимся, ты в надежных руках.
Она что‑то бормотала с трудом, Апу не мог разобрать слова. Он понимал, для чего парамедики так себя ведут: чтобы не позволить ей соскользнуть в кому, и потом, после промывания желудка (это ему тоже пришлось наблюдать во всех подробностях, потому что ее рука-лапа так и сжимала его запястье), когда мать очнулась на больничной койке, она сказала ему: “Единственное, что я пыталась сказать в скорой: дитя мое, пожалуйста, разбей этому грубияну лицо”.
Она вернулась домой триумфально, ведь, разумеется, ее положение в семье было восстановлено, и то изменническое чадо, которое не было ее чадом, молило о прощении. И она сказала ему, что прощает, но на самом деле так никогда и не простила и до конца жизни почти не разговаривала с ним. Да и он не так уж мечтал о прощении. Она позволила себе назвать его мать женщиной, которая никому не интересна, она заслужила все, что он ей причинил. После этого братья метафорически захлопнули дверь у него перед носом и сказали: его счастье, что они‑то к насилию не склонны. Он проглотил свою гордыню и у них тоже просил прощения. Получил он его не скоро. Но по мере того, как шли года, между ними постепенно восстановилось сдержанное доброжелательство, обрывистое общение, которое посторонние принимали за выражение бессловесной братской любви, а на самом деле они всего лишь притерпелись друг к другу.
Незаданные вопросы висели в воздухе, неразгаданные тайны: почему тот юный мальчик, который станет Д Голденом, так истово мечтал вести домашнее хозяйство, что решился унизить ради этого мачеху? Лишь для того, чтобы доказать свою принадлежность к семье? Или – ведь так вполне могло быть – чтобы отомстить за покойницу, которая дала ему жизнь?
– Не знаю, – отмахнулся Апу, когда я спросил его. – Он редкостным засранцем порой бывает, когда ему в голову стукнет.
Из острого ощущения своей особенности, обусловленной незаконным рождением, Д Голден сконструировал версию ницшеанского элитизма для оправдания своего одиночества. (Всякий раз, как подумаешь о Голденах, мелькает эта тень Ubermensch[31].)
– Откуда возьмется “общее благо”? – цитировал он философа в Саду. – Термин внутренне противоречив: общее малоценно. В конечном счете все должно оставаться как есть и как всегда было: великое для великих, бездны для глубоких, нюансы и дрожь для утонченных и, словом, все редкостное для немногих.
Мне это показалось юношеской позой, не более того – я был всего на несколько месяцев старше и распознавал в нем собственную слабость, склонность философствовать. Д и в самом деле манерничал и принимал позы, эдакий Дориан Грей, худощавый, гибкий, что‑то в нем чувствовалось женственное. Его образ – будто бы он единственный из своего клана обладал задатками величия, только ему хватало глубины характера, чтобы с головой погрузиться в скорбь, только он принадлежит к “немногим”, – казалось мне, вполне объяснялся потребностью в самозащите. Но я ему сочувствовал: ему выпали не лучшие карты, а строить вокруг себя стены стараемся мы все, ведь так, и, может быть, даже не знаем, от чего именно стараемся отгородиться, какая сила в итоге сокрушит стену и уничтожит нашу маленькую мечту.
Я ходил с ним иногда послушать музыку. Была такая рыжеволосая певица, которой он симпатизировал, Айви Мануэль, она раз в неделю выступала поздно ночью в одном местечке на Орчард-стрит, иногда в тиаре на голове, точно королева. Она пела каверы “Дикого ветра”, и “Знаменитого синего плаща”, и “Под мостом”, а потом переходила к немногочисленным собственным сочинениям, а Д сидел перед ней за маленьким круглым столом из черного металла, закрывал глаза, покачивался под Боуи и Коэна и шепотом подменял слова “Чили Пепперс”: “Иногда я чувствую, что еще не родился, иногда я чувствую, что не хочу рождаться”. Айви Мануэль была его другом, потому что, говорил он (не в шутку), все встречавшиеся ему девушки традиционной ориентации тут же пытались на него запрыгнуть, но Айви лесбиянка, и с ней можно просто дружить. Он был самым красивым из Голденов, это с готовностью подтвердило бы любое волшебное зеркальце, и он умел быть самым из них обворожительным. Мы все в домах, примыкавших к Саду, стали жертвами его откровенности подранка, и за пределами Сада он тоже вскоре сделался известен. Он уверял, будто чужое внимание его смущает. Куда бы я ни пошел, люди смотрят на меня, говорил он, всегда смотрят, словно я кто‑то, словно от меня чего‑то ждут. Успокойся, отвечала ему Айви, никому от тебя ничего не надо. Он ухмылялся и склонял голову, якобы извиняясь. Шарм был его маской, точно так же, как у Апу: под этой поверхностью он бывал мрачен и часто печалился. С самого начала именно он был тот из братьев, в ком обитала самая темная тьма, хотя он и явился в мир подобный солнечному зайчику, с густыми, почти белыми волосами на голове. Волосы постепенно потемнели, стали каштановыми, и небеса его души тоже заволокло, частенько он впадал в депрессию, в уныние.
Айви не слишком подчеркивала свою сексуальную ориентацию, считала, что певице не подобает обклеиваться ярлыками. “Я ничего не скрываю, нет проблем, но думаю, что это не имеет никакого отношения к моей музыке, – говорила она. – Люблю, когда люблю. Не хочу, чтобы люди из‑за этого не слушали мои песни, также не хочу, чтобы они слушали мои песни из‑за этого”. Тем не менее ее аудитория почти целиком состояла из женщин – множества женщин плюс очаровательный молодой человек, которому не нравилось, чтобы на него смотрели, да я.
Все Голдены рассказывали о себе какие‑то истории, в которых существенная информация об их корнях либо выпускалась, либо подменялась. Я выслушивал эти повести не как “правду”, но как слепок с характера. Вымысел, который человек о себе рассказывает, помогает понять его так, как не помогла бы документальная запись. Я воспринимал эти анекдоты, как “тики” игроков в карты: те невольные жесты, которые выдают, что у противника на руках – кто‑то потирает нос, набрав козырей, или дергает себя за мочку уха, если не повезло. Умелый игрок следит за всеми, кто сидит за столом, подмечая их тики. Вот каким образом я старался наблюдать и слушать Голденов. Но однажды, когда я пошел с Д в то местечко на Орчард-стрит послушать, как Айви Мануэль поет Боуи – ч-ч-ч-ч, – и Митчелл “Не кажется ли, что всегда проходит”, и собственную забавную песенку на тему научной фантастики, “Терминатор”, о путешествующих во времени потенциальных спасителях человеческого рода, а потом я пил с ними обоими пиво в опустевшем ресторанчике, я упустил самый красноречивый тик. Кажется, это Айви затронула все более усложнявшуюся тему гендера, и Д в ответ рассказал греческий миф. Гермафродит был сыном Гермеса и Афродиты; нимфа Салмакида влюбилась в него так сильно, что молила Зевса навеки соединить их, и они слились, двое в одном теле, сохранив явные признаки обоих полов. В ту пору я думал, он в такой форме объясняет свою близость к Айви Мануэль, их вечное единство в дружбе. А на самом деле он рассказывал более странные вещи, но я не сумел вслушаться: он говорил о самом себе.
Суть метаморфозы в том, что она не случайна. Филомела, подвергшаяся нападению своего зятя Тирея, изнасилованная, с вырезанным языком, упорхнула от него в образе соловья, свободная, со сладчайшими песнями. Как и в мифе о Салмакиде и Гермафродите, боги допускают, чтобы тела превращались в другие тела под давлением отчаянной потребности – любви, страха, страсти к свободе – или же когда сосуществование в одном теле есть тайная истина, которую раскроет лишь такое преображение.
Д всегда носил при себе три серебряных доллара, чтобы гадать с помощью старинных китайских гексаграмм. В ту ночь на Орчард-стрит он бросил монеты, и вышло пять неизменных прерывистых линий и одна неизменная непрерывная сверху.
– Двадцать три, – сказал он. – Сходится.
И убрал монеты.
В ту пору я ничего не знал о Книге перемен, но позднее в ту ночь поискал гексаграммы в интернете. В наш век поисковых машин любое знание – в одном клике от тебя. Гексаграмма 23 называется “Разрушение” и описывается как знак распада. Ее внутренняя триграмма означает “дрожь” и “гром”.
– Пора домой, – сказал он и вышел, не оглянувшись на нас.
Я отпустил его. Я не бегаю за людьми, которые дают понять, что моего общества с них довольно. Может быть, щепетильность в данном случае помешала мне лучше разобраться, и прошло немало времени, прежде чем я подумал: возможно, под его страхом перед чужими взглядами кроется не тщеславие, нарциссизм или застенчивость, а нечто иное.
В начале всегда – какая‑то боль, которую надо смягчить, рана, ждущая исцеления, незаполненная лакуна. А в итоге всегда провал – боль неисцелима, рана не зарастает, бесконечная печальная пустота.
На вопрос о природе добра, который я задавал в самом начале этого повествования, я могу дать по крайней мере частичный ответ: жизнь молодой женщины, которая влюбилась в Диониса Голдена в некий день на тротуаре Бауэри и оставалась с ним рядом, во всем, что дальше произошло, неизменно окутывая его любовью, – это для меня один из лучших примеров хорошей жизни, какой я могу найти в своем сравнительно коротком, ограниченном не таким уж большим пространством существовании. “Le bonheur écrit à l’encre blanche sur des pages blanches”, говорит нам Монтерлан[32]. Счастье пишет белыми чернилами по белой бумаге. А доброта, добавлю я, так же ускользает от определения, как радость. И все же я должен попытаться, потому что двое нашли и крепко держали нечто, бывшее как раз этим, не меньшим – счастьем, порожденным добротой, – и оно в свою очередь их поддерживало против самых невероятных бед. Пока несчастье не смело его.
С того дня, как он с ней познакомился – она была в белой рубашке, в черной узкой юбке и курила французскую сигарету без фильтра на тротуаре возле Музея идентичности, – он понял, что нет никакого смысла скрывать от нее какие‑то секреты: она умела читать его мысли так точно, словно подсвеченные известия сменяли друг друга у него на лбу.
– Айви сказала, нам надо познакомиться, – заговорил он. – Я подумал, это дурацкая идея.
– В таком случае зачем же вы пришли? – спросила она и со скучающим видом отвернулась.
– Хотел увидеть вас, чтобы понять, хочу ли я вас видеть, – пояснил он.
Это ее заинтересовало, но, казалось, лишь слегка.
– Айви сказала мне, ваша семья рассталась с родиной и вы не желаете обсуждать, как и почему это произошло, – заговорила она. Глаза ее были шире океана. – Однако сейчас, когда вы стоите передо мной, я вижу, что вы сами в изгнании – в разлуке с собой – возможно, с того самого дня, как появились на свет.
Он нахмурился, явно рассерженный.
– Откуда вы это узнали? – резко спросил он. – Вы кто, музейный куратор или шаман?
– Существует особого рода печаль, – ответила она, затягиваясь “Голуазом”, похожая на Анну Карину в “Безумном Пьеро”[33], – которая выдает отлученность человека от собственной идентичности.
– Мне противно современное помешательство на идентичности, – возразил он, пожалуй, с излишним нажимом. – Нас обрубают и сужают, пока мы не превращаемся в инопланетян друг для друга. Вы читали Артура Шлезингера? Он выступает против закрепления маргинализации путем утверждения различий.
Одет он в тот день был в тренчкот и шляпу с узкими полями, потому что лето близилось, но еще не пришло, словно женщина, обольщающая посулами любви.
– Но это так и есть, мы все инопланетяне. – Легкое пожатие плеч, намек на гримаску. – Суть в том, чтобы максимально точно выяснить, каким типом инопланетянина предпочитаешь быть. И да, я прочла всех этих старых мертвых белых гетеросексуальных мужчин. Вам следует почитать Спивак[34] о стратегическом эссенциализме.
– Пойдем куда‑нибудь выпить виски? – предложил он, все еще с раздраженной интонацией, а она продолжала взирать на него как на простачка, нуждающегося в помощи специалиста. Чулки у нее были с черными швами, взбегающими сзади под коленки.
– Не сейчас, – сказала она. – Сейчас вы войдете в музей и познакомитесь с новым миром.
– А после этого?
– И после этого тоже нет.
Ночь они провели вместе в ее квартире на Второй авеню. Им столько всего нужно было обсудить, что они обошлись без секса, которому придают слишком много значения, сказал он. Она спорить не стала, но взяла на заметку. Утром он вышел за круассанами для нее, кофе, виски, сигаретами и воскресными газетами. Ключи лежали в холле на маленьком столе цвета красного дерева, что‑то вроде ящика на ножках, не антиквариат, но добротная реплика. Он приподнял крышку и обнаружил револьвер на красной бархатной подушечке, кольт с перламутровой рукоятью, тоже добротная реплика, скорее всего. Он взял его в руки, покрутил барабан, прижал дуло к виску. Потом он говорил, что не нажимал на курок, но она смотрела на него в открытую дверь спальни и слышала, как щелкнул боек, камора оказалась пуста.
– Нашел ключи, – сказал он. – Добуду завтрак.
– Аккуратнее, – крикнула она вслед. – Не запачкай мне ковер в холле.
Рийя, так ее звали. Замечательная девушка. Всего на три-четыре года его старше, но уже на ответственной должности в музее, а кроме того она иногда по вечерам мурлыкала любовные песенки на Орчард-стрит, а еще отшивала собственный инди-лейбл из старого кружева и черного шелка, часто с добавлением парчи с цветочным узором, ориентальные темы, китайский или индийский стиль. Наполовину индианка, наполовину американка шведских корней, длинная скандинавская фамилия Захариассен не помещалась у американцев во рту, и она стала Рийя З., как он – Д Голден.
Все наши тайны зарождаются в алфавите.
“Вы войдете в музей и познакомитесь с новым миром”. Был Музей коренных американцев на Боулинг-Грин, и был Музей американцев итальянского происхождения на Малберри-стрит, и Музей американцев польского происхождения в Порт-Вашингтоне, и два еврейских музея, в центре города и на окраине, и все это, безусловно, тоже были музеи идентичности, но MoI – Музей идентичности – ставил себе более амбициозные цели, его харизматический куратор Орландо Вулф искал идентичность как таковую, новую великую силу, уже столь же могущественную, как любое богословие или идеология; культурная идентичность и религиозная идентичность, народ и племя, секта и семья, стремительно растущее междисциплинарное поле: в средоточии Музея идентичности был вопрос об идентичности любого Я, начиная с биологического Я и выходя за его пределы очень далеко. Гендерная идентичность, расщеплявшаяся как никогда прежде в человеческой истории, нарождавшиеся совершенно новые словари, возникавшие в попытке охватить новую изменчивость.
– Бог умер, и пустоту заполняет идентичность, – сказала она ему в дверях гендерной зоны, глаза ее мерцали ярким энтузиазмом истинно верующего. – Но, как выяснилось, наши боги с самого начала играли с гендером.
Ее черные волосы были коротко пострижены, повторяя форму черепа.
– Отличная прическа, – он ей сказал.
Они остановились посреди горшков, печатей и каменных статуэток Аккада, Ассирии и Вавилона.
– Великая Мать богов, пишет Плутарх, была двупола – оба пола присутствовали в ней, еще нераздельно.
Может быть, если бы он взял напрокат старый кабриолет, красно-белый, с “плавниками”, они бы отправились в далекое путешествие, может быть, через всю Америку.
– Ты видела когда‑нибудь Тихий океан? – спросил он. – Наверное, разочаровывает, как и все прочее.
Они пошли дальше. Темноту музея нарушали ярко подсвеченные предметы, словно возгласы в монастыре.
– Эти артефакты каменного века могли быть трансгендерными жрицами, – рассуждала она. – Тебе следует смотреть как можно внимательнее. Это важно для цис-людей, как и для членов МЖ-сообщества.
Это слово внезапно вернуло его в детство: он снова сидит над учебником латыни, впивается свирепо, чтобы покончить с манерой братьев исключать его из разговоров на тайном языке Рима.
– Предлоги с аккузативом, – заговорил он. – Ante, apud, ad, adversus / circum, circa, citra, cis. / Contra, erga, extra, infra[35]. Неважно. Галлия Цизальпинская и Трансальпийская. Понял. Теперь Альпы отделяют друг от друга два пола.
– Я это слово не одобряю, – сказала она.
– Какое?
– Пол.
Ох!
– Так или иначе, бог не мертв, – сказал он. – Уж в Америке точно.
М-Ж означало переход из мужчины в женщину. Ж-М – наоборот. Она обрушила на него поток слов, гендерная флюидность, бигендер, агендер, транс со звездочкой – транс*, разница между женственностью и феминностью, гендерная неконформность, гендер-квир, небинарность и заимствованное из культуры коренных американцев понятие о двух душах. Фригийскую богиню Кибелу сопровождали слуги М-Ж, именуемые галлами. В африканском зале – М-Ж окуле и Ж-М агуле племени лугбара, транссексуальные амазонки Абомея, фараонша Хатшепсут в мужском наряде с фальшивой бородой. В азиатском отделе Д остановился перед каменной фигурой Ардханаришвары, бога-полуженщины.
– С острова Элефанта[36], – сказал он и рукой закрыл себе рот.
– Ты этого не слышала! – с искренней яростью предупредил он ее.
– Я собиралась показать тебе фанчуанские[37] костюмы китайской оперы, для трансвеститов, – сказала она. – Однако с тебя вроде бы на сегодня довольно.
– Мне пора, – сказал он.
– Сейчас я готова тот виски выпить, – ответила она.
На следующее утро за завтраком, сидя в белоснежной постели и поедая круассан, куря сигарету и держа в руке очередной стаканчик виски, она тихонько пробормотала:
– Я знаю имя страны, которую ты не хочешь называть. И тот город, о котором ты не хочешь говорить, тоже знаю, – шептала она ему в ухо.
– Мне кажется, я в тебя влюбился, – сказал он. – Но я хочу знать, зачем ты держишь револьвер в маленьком столике в холле.
– Чтобы убивать мужчин, которым кажется, что они в меня влюблены, – сказала она. – А может быть, чтобы убить себя, но насчет этого я пока не решила.
– Не говори моему отцу, что ты знаешь, – предупредил он, – иначе тебе, пожалуй, и не придется принимать решение.
Я закрываю глаза и проигрываю в голове сцену из фильма. Открываю глаза и записываю. И снова закрываю глаза.
9
Появляется Василиса, девушка из России. Потрясающая. Можно даже сказать, ошеломляющая. Длинные черные волосы. И тело длинное, великолепное: она бегала на марафонские дистанции, отличная гимнастка, особенно ей давалось выступление с лентой. Говорит, в юности ей чуть‑чуть не хватило до российской олимпийской команды. Ей двадцать восемь лет. Юностью она считает пятнадцать. Ее полное имя – Василиса Арсеньева. Родом она из Сибири и утверждает, будто происходит от знаменитого путешественника Владимира Арсеньева, который написал много книг о том регионе, в том числе ту, что легла в основу фильма Куросавы “Дерсу Узала”, но эта родословная сомнительна, поскольку Василиса, как мы убедимся, блистательная лгунья, изощрившаяся в искусстве обмана. Говорила, что выросла в лесах, в бескрайней тайге, покрывающей большую часть Сибири. Что ее семья из племени нанайцев, мужчины которого были охотниками, трапперами и проводниками. Она родилась в год Московской летней олимпиады, и героиней Василисы, пока она росла, была великая гимнастка Нелли Ким, полукореянка-полутатарка. Шестьдесят пять стран, в том числе США, бойкотировали Московские игры, но девочка в глубине лесов была далека от политики – правда, она слышала о падении Берлинской стены, когда ей было девять. Она обрадовалась, потому что к тому времени уже полистала немногочисленные журналы и мечтала отправиться в Америку и чтобы ее там обожали, а она будет посылать доллары США домой, своей семье.
И так она и сделала. Выпорхнула из гнезда. Вот она в Америке, в городе Нью-Йорке, а время от времени во Флориде, и ею многие восхищаются, и она зарабатывает деньги тем, чем обычно зарабатывают красавицы. Мужчины желают ее, но она ищет не просто мужчину. Ей нужен покровитель. Царь.
Вот она, Василиса. У нее есть волшебная кукла. Когда‑то еще маленькая, прежняя Василиса была послана злой мачехой в дом Бабы-Яги, ведьмы, которая ест детей и живет в самой чаще леса, и тогда волшебная кукла помогла ей спастись, и она смогла начать поиски своего царя. Так сказка сказывается. Но другие рассказывали ее иначе, говорили, что Баба-Яга съела Василису, проглотила, как всех прочих, и таким образом уродливая старая ведьма присвоила себе красоту юной девушки, стала внешне точной копией Василисы Прекрасной, а внутри осталась острозубой Бабой-Ягой.
Вот она, Василиса, в Майами. Теперь она блондинка и скоро встретится со своим царем.
Зимой 2010 года, за несколько дней до Рождества, когда прогноз сулит дурную погоду, четверо Голденов в сопровождении Сумятицы и Суматохи, двух верных помощниц Нерона, прихватив также и меня, вылетели на юг из аэропорта Тетерборо на том, что, как мне пояснил Апу, регулярные пользователи таких воздушных судов именуют Пи-Джи, и таким образом мы спаслись от великой метели. В городе, который мы оставили за спиной, все скоро начнут жаловаться на медлительность снегоуборочников, будут намекать на умышленный саботаж в знак протеста против бюджетных сокращений при мэре Блумберге. Двадцать дюймов снега в Центральном парке, до 36 дюймов толщина снежного покрова в некоторых районах Нью-Джерси и даже в Майами самый холодный декабрь в анналах, иными словами, 16 градусов, вполне умеренная погода, не так уж зябко. Старик снял несколько апартаментов большого особняка на частном острове поблизости от Майами-Бич, и нам там по большей части было вполне тепло. Петя любил остров: с материком его соединял только паром, и ни один чужак не допускался на священную территорию без рекомендации резидентов. Павлины птичьего рода и человеческого распускали тут перья, не боясь попасться на глаза чужакам. Богачи выставляли напоказ свои коленки и свои тайны, и никто лишнего не болтал, так что Петя мог себя уговорить, будто остров – огороженное место, и его страх перед открытыми пространствами разве что негромко урчал в тени.