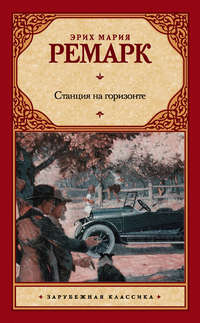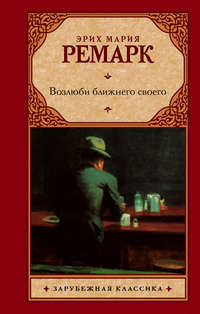Полная версия
Гэм
Город остался за кормой парохода. Шум порта стих, подул ветер. Берег, точно мятая монашеская ряса, долго висел над водой. Безлюдье, только высоко на горе виднелся пастух-козопас. Недвижная фигура на окоеме, и на плечах у нее древние небеса.
Потом день за днем вокруг шумело море. Низкие острова в зеленом убранстве, с белыми домами, ползли мимо парохода, тонули в золотистой дымке. Плавучие и наземные маяки окаймляли вход в Ла-Плату, песчаные косы замедляли плавание, но вот наконец впереди открылся рейд Буэнос-Айреса.
Гэм страдала от сухого ветра. Кинсли предложил ей поехать в глубь страны, где были его имения. Некоторое время их путь лежал параллельно железной дороге на Росарио, потом они пересекли ее и свернули на восток. На следующий день им встретился табун мустангов. На них было клеймо Кинсли, эти лошади принадлежали ему.
Но ехали они еще несколько дней. Открытые всем ветрам холмы поросли ежевичником; песчаные низины между ними тянули вдаль свои щупальца. Степная трава стала выше. Какое-то время рядом с машиной скакали пастухи-гаучо, потом они свернули в сторону, метнув в воздух свои лассо. Едва ли не целый час над машиной парил орел, как бы зависнув на одном месте. Под вечер они увидели серый отблеск солончаков, потом вдоль дороги, мало-помалу расширяясь, зазмеилось узкое взгорье с густым ольшаником. Как-то вдруг впереди возникли низкие постройки. Ночь гудела, словно пчелиный рой, когда автомобиль скользнул в лощину, где была расположена ферма.
Навстречу с лаем высыпали собаки, принюхались и завыли так, что воздух кругом затрепетал от этого воя. Вышли с фонарями служанки, кликнули собак и засуетились, засновали туда-сюда. Псы никак не унимались, они узнали Кинсли и скакали вокруг. Старая нянька во все глаза смотрела на него, похлопывала по спине. Потом глянула на Гэм и рассмеялась. Она вскормила Кинсли.
К ним торопливо протиснулся управляющий, о чем-то быстро заговорил. Но Кинсли локтем отодвинул от себя всех и вся, подхватил Гэм на руки и под лай собак и радостные возгласы унес ее в дом.
За ужином нянька, подавая на стол, без умолку болтала. Кинсли слушал, не перебивая. Гэм чувствовала себя отстраненной и чужой. Она догадывалась, что долгие годы, прожитые бок о бок, даже и неравных людей соединяли узами, которые порой были прочнее всего остального. Кинсли казался ей одновременно и более чужим, и более близким. Это новое окружение было неотъемлемо от него – не фон, который подчеркивал контраст, но хорошо пригнанная рама. Потому-то он тотчас занял свое место среди этой новизны – новизны для нее, – вошел туда целиком и полностью; не возвысился, но как бы расширился благодаря окружению, которое поддерживало и скрепляло его существо.
Рядом с Гэм сидел пес Пуришкова. Он льнул к ней и испуганно поглядывал на дверь, когда собаки на улице поднимали лай. Стая встретила его враждебно. Он бросился наутек, на бегу внезапно обернулся, в мгновение ока порвал горло ближайшему преследователю, а потом черной молнией метнулся во двор – к Гэм. Она крепко прижимала пса к себе, когда он вздрагивал. Он был чужак, как и она.
За оконными сетками жужжали москиты. Молоденькая служанка из племени чино подоткнула сетку над кроватью Гэм, погасила свет и, скрестив руки, на прощание что-то невнятно пробормотала. Гэм мгновенно уснула.
На следующий день они с Кинсли верхом отправились на пастбища. Гаучо рассказывали о гевеях у реки и о сборщиках каучука, с которыми у них случилась драка; о таинственных индейцах, которые якобы жили в лесах; о странном свете, который в безлунные ночи блеклой угрозой висел над степью. Потом сказали, что Мак непременно должен что-нибудь сыграть. Этот Мак был из них самый младший. Но он взглянул на Гэм и объявил, что на гитаре порваны струны.
Подскакал какой-то всадник, уже издали крича, что хозяину трактира привезли бочку бренди. Шум поднялся невообразимый. Все кричали наперебой и свистом подзывали лошадей. А потом галопом помчались в трактир. До места добрались через час. Сонный дом вылупился из-за деревьев. Гаучо застучали в окна и двери – немного погодя из окна в нижнем этаже высунулся ружейный ствол, а за ним настороженная физиономия. Гаучо заарканили ружье, требуя немедля впустить их в трактир. Хозяин успокоился, захлопнул окно и отпер дверь.
Гэм и Кинсли отправились дальше. Завеса тьмы сомкнулась у них за спиной. Глухо цокали копыта, и отзвук скачки доносился откуда-то снизу, точно подземные кастаньеты. Наконец Кинсли остановил коней; они спешились, легли в траву и припали ухом к земле – несчетное множество шумов и шорохов, то близких, то далеких: степь говорила. Незримые стада спешили куда-то в ночи.
Когда они, ведя коней в поводу, зашагали дальше, в лицо резко ударила духота, она словно крепко вцепилась в землю и теперь набрасывала на них коварные сети, стараясь притянуть к себе. Лошади забеспокоились, начали пританцовывать. Зной набирал силу, болотной жижей липнул к дыханию и нехотя, медленно заползал в легкие. На горизонте клубились тучи, луна вдруг пропала. Сернисто-желтый свет промелькнул над степью. Потом блеснула зарница, и среди внезапной тишины глухо заворчал гром. В неистовой призрачной скачке промчался табун мустангов, повернул, рассыпался и, словно в замешательстве, опять сбился в кучу. Гэм почувствовала на затылке жаркое дыхание. Маленький жеребенок пугливо припал к ее шее влажными ноздрями. Холка у него трепетала, он дышал часто и возбужденно, прянул назад, замер и, фыркнув, отскочил. Верховые лошади начали вставать на дыбы, грызть удила и запрокидывать голову – сдержать их удавалось лишь с большим трудом.
И тут вспышка молнии распорола тяжелые тучи. Оглушительно грянул гром.
– В седло! – крикнул Кинсли Гэм.
Кони рванули с места в карьер. Понизу, над самой травой, пронесся ветер, закружился ураганными вихрями, хлестнул в лицо пылью и мелкими камешками. И ринулся вдогонку за лошадьми, которые безумным галопом летели вперед – вытянутые струной спины, воплощенное бегство от гибели. Слепящие молнии кромсали небо. Колдовским огнем вспыхивали пламенные стены, а между ними полыхали струи синего блеска. Под бешеными ударами исполинских топоров небесный купол трещал и разваливался, молнии вспарывали огромные жилы бесконечности в мифической битве с ночью, которая снова и снова поспешно затягивала разверстые раны бархатом тьмы.
Табун мустангов сгрудился вокруг дерева, дыбясь, вращая глазами, в которых жутко мерцали белки. Самые могучие жеребцы кольцом обступили остальных. Защищаясь от опасности, они били копытами и хватали зубами воздух. Жеребята находились внутри кольца взрослых лошадей.
Конь Гэм стремительно бросился к табуну. В следующий миг Гэм оказалась одна в толчее фыркающих животных. В свете молний вокруг поблескивали гладкие спины испуганных мустангов, точно волны бурного моря. Она подобрала ноги повыше, чтобы ее не раздавили, и резко дернула поводья. Но кобыла уже не слушалась. Чуя запах необъезженных собратьев, она просто обезумела – с ржанием вставала на дыбы, пыталась сбросить наездницу.
Кинсли увидел Гэм в гуще табуна и, с силой хлестнув своего коня плеткой, устремился на выручку. Какой-то жеребец куснул его за руку. Он ударил его револьвером промеж глаз, осадил коня и поскакал в объезд табуна, чтобы добраться до Гэм с другой стороны.
Первые капли дождя зашлепали по земле. От спин взмыленных мустангов повалил пар; запах был горячий, мощный, крепкий и томительный – буйная лихорадка течки и смертельного страха, проникавшая в кровь и сметавшая всякую мысль и логику.
Внезапно степь поднялась и вспыхнула, небо обрушилось в бесконечную ярь, мир брызнул клочьями и, пылая, канул в бездне света – в дерево ударила молния. Табун рассыпался. Несколько мустангов дергались на земле. Дерево ослепительным факелом пылало над обломками творения. Гэм опомнилась, когда с шумом хлынул ливень; белая пена от взмыленной кобылы висела в ее волосах. В ней вдруг вскипело неистовство, захлестнуло все ее существо. Бросив поводья, она крепко обхватила шею лошади, которая как безумная летела куда глаза глядят, гонимая чудовищным ужасом. Прижимаясь лицом к гриве, Гэм была зверем и стихией, гонкой, кошмаром и исступлением.
Впереди сверкнула молния – перепуганная кобыла повернула. Кинсли направил своего коня наперерез, чтобы перехватить ее. Но кобыла не узнала хозяина, прянула в сторону. Бешеная скачка продолжалась. Хрипло дыша, лошади скакали бок о бок, люди кричали друг другу какие-то неразборчивые слова, тонувшие в реве бури.
Могучим рывком Кинсли бросил своего коня к кобыле, схватил поводья, на полном скаку выдернул Гэм из седла, прижал к себе и от избытка чувств долго кричал в ночь и бурю, пока взмыленный жеребец, сломленный усталостью, не остановился в потоках дождя и оба они, судорожно цепляясь друг за друга, наконец не ощутили под ватными ногами степную почву.
Когда ливень кончился и над землей опять засияла луна, Кинсли бережно устроил спящую женщину в седле впереди себя и поехал домой, а она даже не проснулась.
Зной неподвижно висел над фермой. Гэм подставила руки под струи фонтана. Прохлада манила чистым дыханием, словно могла проникнуть в структуру ее тела и заставить блаженную вялость клеток обернуться текучей стихией. Погруженные в воду, руки обретали собственную жизнь. Точно какие-то диковинные существа, бледные и робкие, виднелись они на фоне зеленого дна. Сумерки выползали из глубины источника.
Из лесу пришли мужчины. Подстрелили шиншиллу и рыжего волка. Собаки заволновались, теребя добычу. Среди гула голосов зазвенел теплый смех, счастливый, гортанный и мягкий, – молодая женщина бежала навстречу мужу, который вернулся с плантаций. Нянька не закрывая рта тараторила о пумах и зорро,[4] подстреленных за последние месяцы, и с ужасом показывала рукой в сторону лесов: мол, иной раз ночью ягуары к самой ферме подходят. Потом шумная толпа разбрелась по домам.
Гэм пошла дальше в степь. Заурчали лягушки – будто призрачные монахи забубнили литургию. С жалобным щебетом проносились мимо стрижи. Меж деревьев в прихотливой игре порхали летучие мыши. Толстые мотыльки внезапно поднимались из травы, жуки взблескивали среди былинок, меланхолично покрикивали камышовки, металлом звенели цикады. Шкурой дикого зверя пахли акации.
Когда подошел Кинсли, Гэм без слов медленно обняла его обеими руками, словно не хотела больше отпускать. Молча прильнула к нему, закрыла глаза. Как это сродни смерти, чувствовала она, это высвобождение и излияние в другого, это отречение и смирение перед собственной покорностью, эта упрямая жажда проникнуть в чужое «я» – ласковая смерть от любимой руки…
Некая мысль явилась из давних дней, когда она порой ловила себя посреди какого-нибудь движения – взмаха руки, шага; она словно бы уже знала, что происходит и как это вплетено в ткань грядущего, и потому испуганно и настороженно наклоняла голову, с безотчетным ужасом угадывая, что это странно знакомое некогда уже было, да-да, было. Откуда-то из глубины всплывало ощущение: ты ведь это знаешь…
Но вспомнить никогда не удавалось. Лишь смутно брезжило впечатление, будто на миг загадочно приоткрывается двойственность бытия, на долю секунды приподнимается занавес, за которым совсем другая жизнь, она истаяла, быть может, прежде нынешней, а теперь, перехватив частицу духовного жара, призрачно вспыхивала и устремлялась в сферу сознания. Или то было предвестье бытия, которое еще только формировалось и тускло мерцало за порогом смерти, – а может быть, в волшебном сиянии над осознанным. Сегодня безмолвно кружил духовный хмель Вчера и Завтра, замыкая параболу в кольцо?..
Гэм озябла от ночной прохлады и ушла в дом, который ласково принял ее. Стены с их пределами казались родным прибежищем средь бури чувств. В углу сидела хозяйская ручная обезьяна, под вечер она прошмыгнула в комнату и долго играла тут соляными кристаллами. Странным, до боли трогательным жестом зверек прижимал руки к груди. Когда он шевелился, отблеск окна падал ему на лицо. В глазах блестели слезы.
Огромная тьма творения нахлынула на Гэм. В этом живом существе с коричневой шкуркой пульсировало непостижное, в его внезапных поступках и движениях угадывалась родственная близость, оно было чудом – и внушало ужас, ведь живое в нем казалось более чуждым, чем все, что есть в мире мертвого; некая мощь бродила в нем, неподвластная постижению. Можно было попытаться объяснить ее, но объяснить только по-человечески. Что ведомо нам о пурпурном мистическом мире, который живет рядом и все же находится далеко-далеко, словно на другой звезде? Гэм ужаснулась кошмарному одиночеству, которое разверзлось перед нею и в котором было зачаровано все – оцепененное столбняком, с перепуганными глазами, погребенное в себе самом.
Гэм устроилась у окна и стала смотреть наружу. Как вдруг в колено ткнулась мягкая морда. Собака бесшумно подошла и прижалась к хозяйке.
Чего хотел этот пес? О чем думал? Он пришел сам, никто его не звал. Какой загадочный импульс обусловил этот поступок, который так потрясал, если подходить к нему с человеческой меркой? Пес пришел к своему богу?
Безотрадные боги в образе человеческом, они и не ведают о приязни своих творений и все же не могут обойтись без непритязательной любви существ, знать и постичь которых им не дано. Мир под луною, луна в мирозданье – кто держит все это в своей ладони? Быть богом – трагический финал человечества?
Гэм подняла голову пса и посмотрела на него. Глаза в глаза, совсем близко. Она сверлила взглядом эти два сверкающих глаза, желая проникнуть в их тайну. Пес забеспокоился в ее цепкой хватке, пытался отвернуться, вздрагивал и жмурился. С отчаянным страхом Гэм всматривалась в его глаза. Он опять затих и уставился на нее. Спокойная радужка под поднятыми веками.
Комната начала кружиться. Вещи все быстрее скользили друг за другом. Зеленые полосы рассекали их круженье, искрящимся вихрем пролетали белые лучистые венцы, пока жгучая оцепенелость напряженных глаз не отпустила, разрешившись тяжелыми каплями, – и пес наконец-то вырвался из сведенных судорогой пальцев.
По лестницам Гэм спустилась во двор, прошла за ворота, в степь, где буйный ветер памперо диким зверем метался средь черных деревьев.
Приоткрыв рот, она жадно вдыхала свежесть ночи. Но оцепенение не уходило. Что-то страшное стискивало паучьими пальцами ее сердце, она чувствовала, что перед нею вот-вот разверзнется безликий хаос, где ждет безумие.
Внезапно пала обильная роса. В мгновение ока траву оплеснуло каплями влаги. Волосы и брови стали сырыми и холодными. Гэм зябко поежилась. Дальше идти не хотелось, дорога вела во тьму. А она хотела к людям – к людям, насмехалось эхо. Летучая мышь запуталась у нее в волосах. Она вскрикнула и бегом бросилась к дому. Пришел Кинсли, заговорил с нею, голос его внушал покой, а голова склонилась к ее лицу, точно луна в небе. Она прижалась к нему, потянула его к себе в подушки.
Он чутьем угадывал, что взволновало Гэм, и, ласково поглаживая, успокаивал. Даже когда она благодарно уткнулась губами в его ухо и обмякла, Кинсли ее не взял.
Наутро, проснувшись, она долго смотрела по сторонам. День был светлый, яркий. Воздух за окном уже трепетал от зноя. Теплыми волнами вливался в комнату. Во дворе пела нянька. Громыхали телеги, радостно лаяли собаки, кричали попугаи. Мир был открыт и упорядочен. Одна форма соединялась с другою; уверенно и твердо стояло у дверей бытие.
Что же это было… Наваждение, безумный сон. Ночь с ее злым волшебством ушла; настал день, и вокруг была жизнь и реальность настоящего.
Гэм все еще грезила, когда пришел Кинсли и, смеясь, высыпал на кровать целый выводок котят. Малыши неуклюже ползали по одеялу и тихонько попискивали.
Гэм смотрела на Кинсли по-детски робко и покорно. Ей вдруг вспомнилось, как она заснула, и лицо залилось краской. Она быстро схватила его руку и поцеловала. А вскоре весь дом звенел от ее песен.
На следующий день к ним мимоходом завернул караван мулов из Сьерра-Кордобы. Он вез на побережье пестрый мрамор и медь. Вожатый велел погонщикам – индейцам гуарани и тупи – расположиться на отдых неподалеку от эстансии. На груди у индейцев были татуировки – племенной тотем. Устроившись в тени акаций, они терпеливо жевали кукурузные лепешки.
Вожатый показал Кинсли особенные находки: кварцы с синими прожилками и на удивление крупные кристаллы горного хрусталя. Гэм он подарил два агата.
Заметив, с каким удовольствием она рассматривает камни, Кинсли принес ей индейское ожерелье из оправленных в золото сердоликов и аметистов. Вечером Гэм обернула этой ниткой бедра, когда, обнаженная, сияя в коричневых сумерках белой кожей, ходила по коврам.
Спустя две недели Гэм и Кинсли были на побережье; парусная яхта Кинсли стояла на рейде. Некоторое время крачки и чайки провожали яхту, дельфины резвились в волнах. Раз Гэм даже приметила треугольный плавник акулы. Вечером вода слабо фосфоресцировала. Летучие рыбы едва не выпрыгивали на палубу. Потом яхту подхватил пассат.
Полубак был отделен от остальной части судна тентом. Гэм в шезлонге нежилась на солнце. Команда отдыхала – сиеста; только рулевой за штурвалом клевал носом. Кинсли отослал его в кубрик и сам стал за штурвал.
Синее небо кружило над яхтой; со всех сторон потоки солнечного света. Беспредельный полдень раскинулся над миром, стремясь к высшей своей точке, все безмолвствовало, все замерло в пугающей неподвижности.
Гэм поднялась. Прозрачные бисеринки пота покрывали ее лоб. Вставая, она ощутила, как кровь темной волной прихлынула к глазам. Она потянулась, чувствуя в каждой жилке солнечное струенье. Забыв обо всем от сладости этого ощущения, она сбросила одежду, желая целиком отдаться объятиям солнца. Погрузилась в него, обратила закрытые глаза к небу.
Среди света и плеска волн она вдруг необычайно ясно осознала свое «я», свое существо, в которое хрустальным ручьем вливался мир. Она была морем, и светом, и вечностью. Мера всего сущего пела в ней – пела яхта, пел ветер, пело море, пело небо; она раскрыла обращенные к солнцу глаза – молния пронзительной боли, плеск волн, пение, начало и конец, слитые в одно, шум и безмолвие. Мистерия.
Руки ощупью шарили вокруг, колени дрожали, она кричала в безотчетном упоении и не слышала своего крика. В ней разверзлась рокочущая, пронизанная дрожью пучина, куда рухнула жизнь, врата жизни, сокровищница жизни, бездна жизни, куда вечно стремилось живое, – лоно… Она криком звала жизнь, трепетала, пылко ее предвкушая, шептала, хваталась за пустоту, стонала, хрипела сквозь стиснутые зубы, цеплялась за чью-то одежду, не понимала, что говорит ей чей-то голос, вырывалась, отталкивала мужчину, кричала:
– Солнце… объемлет… небо… обвивает… мир изливается… жизнь… струится…
Она увлекла мужчину в неистовство, и он сдавил руками ее горло, стал душить. От удушья губы ее сложились в гримасу столь невообразимого наслаждения, что Кинсли разжал пальцы. Она тотчас же опять вцепилась в него, и он в ужасе отшвырнул ее от себя. Пошатываясь, Гэм встала, странно парящей походкой, с загадочной усмешкой на воспаленных губах прошла мимо него, запрокинув голову, отрешенно уронив руки, ощупью спустилась в кубрик.
Навстречу ударил полумрак. На мгновение она замерла, синий блеск, который нес ее, потух. Однако немного погодя Гэм вновь услышала глухой плеск, и в люке опять заголубело небо.
Рулевой проснулся в своем гамаке, протер глаза и, еще полусонный, хищно выпрыгнул из сетки.
Но китаец-кок был уже рядом с Гэм. Похоть оцепенила его лицо, превратила в маску Медузы. Отталкивая рулевого, он тянул свои лапы к стройным белым бедрам. Но рулевой не давал себя оттеснить, лез к женщине. Китаец зашипел и попытался остановить фриза. Они покатились по полу, пыхтя и отчаянно дубася друг друга.
И тут в дверях вырос Кинсли. Держась одной рукой за косяк, другой он нащупал револьвер, но тотчас сообразил, что пуля может задеть Гэм, бросил оружие, схватил плеть и начал охаживать дерущихся. Кок с воплями скорчился на полу. Кинсли пнул его в физиономию и увел Гэм в каюту. Она открыла глаза, пролепетала что-то невнятное, сонно улыбнулась, точно вялый цветок, уронила голову в подушки и сразу же крепко уснула.
Кинсли долго в задумчивости сидел подле нее. В конце концов тряхнул головой и встал – надо глянуть, как там китаец. Тот по-прежнему лежал на полу. Кинсли осмотрел его и отправил спать. Теперь настал черед рулевого, который притих в углу. Кинсли сказал, что в ближайшем порту он получит расчет.
Ночью Гэм проснулась. И попыталась собраться с мыслями. Что-то произошло. Она чувствовала себя свежей, возрожденной. Темные вихри умчались прочь. Ступени кончились, впереди ждала просторная равнина. Она уступила могучему внутреннему желанию, которое в слепом, первозданном порыве швырнуло ее к мужчине. Но для нее в этом взрыве женского начала было нечто большее – глубочайшее переживание себя как человека, сосредоточенное в эротических сферах, потому что она была женщиной.
Мистическая карма, бросавшая повсюду свои зеркальные отсветы, внезапной вспышкой высветила ее сокровенное «я».
Годами события и переживания властвовали ею, не давая ни минуты покоя. Как во сне, она едва ли не смиренно покорялась их власти. И вот теперь наивысшая точка была позади, Гэм прочувствовала свою человеческую природу. И знала, что это останется с нею навсегда.
Испытание свершилось. Пора в обратную дорогу. От пестрого многообразия путь привел ее к единству в себе самой и теперь вновь повернул к многообразию, к непостижному, заманчиво-авантюрному впереди, к жизни, которая всегда и везде имела облик мужчины.
Светало. С палубы донеслись невнятные голоса. Кинсли поднялся наверх. Матросы сгрудились вокруг рулевого. Увидев Кинсли, тот направил на него револьвер и сказал: ни с места, иначе конец. Увольнение он должен отменить. Они-то в чем виноваты? Для гарантии Кинсли выплатит всем жалованье за три месяца вперед. Протест бесполезен. Они в открытом море.
Кинсли пристально посмотрел на рулевого. Тот смешался и опустил оружие.
– Стреляй! – сказал Кинсли, шагнул к нему и отобрал револьвер. Матросы попятились. Минуту-другую Кинсли молчал, потом вспомнил о причине инцидента и почти с грустью бросил: – Можешь остаться.
Гэм все это слышала. Но когда увидела Кинсли рядом, безмолвного и добродушного, неожиданно подумала: неужели все кончено? По-прежнему ли он понимает ее? Что-то встало между ними, но она не знала, от кого это шло. Это был не упрек, не обвинение. Сам Кинсли.
Под вечер, когда она вышла на палубу, рулевой ухмыльнулся ей в лицо. Она не знала почему, но догадалась, вспомнив утреннюю сцену, и свистом подозвала легавого пса Кинсли, который принес ей плетку. На обратном пути она снова увидела наглую ухмылку. И наотмашь хлестнула плеткой по этой физиономии.
IV
Они стали на якорь в Коломбо. Местные каноэ с балансиром тотчас окружили яхту. Гэм бросала в воду монеты. А туземцы, словно тюлени, ныряли, выуживали их и шумно ссорились из-за добычи. На влажной загорелой коже играло солнце. Пальмы на берегу, ароматы земли. Стоя рядом с Кинсли у поручня, Гэм махнула рукой в сторону ныряльщиков.
– В общем, неудивительно, что на Востоке белый – цвет траура, нам боги представляются белыми, а ведь они – бронзовые…
– Бронзовые и жестокие, – сказал Кинсли, – беспощадные. И это хорошо. Стало быть, они насквозь пропитаны мелочным эгоизмом. Слабостью к себе самим. Упадок тоже имеет свою логику.
– Которой сопротивляются.
– Бесполезно. Кто любит восхождение, должен принять и упадок, ведь то и другое неразделимо. Но восходящий не верит в падение.
– Даже когда уже падает?
– Потому что он не умеет истолковать знаки времени. Когда дом приходит в упадок, осыпается штукатурка. И упадок судьбы тоже имеет свои предвестья. Долго им сопротивляться – безрассудство, а то и сентиментальность, что еще хуже. Становишься смешон. Конец можно лишь скрыть, но не остановить.
Гэм смутно улыбнулась.
– Кто говорит о конце…
Кинсли не ответил.
Шли дни, отягощенные мыслями, которые обособляли, требовали одиночества. Временами взгляд искоса, ощущение тени, стеклянной стены. Потом снова бурная кипень чувств, хлещущих через край, безумный лепет. И вновь отлив, вновь равновесие и ожидание, которое казалось неоправданным и все же было куда упорнее любого дурмана.
На наружной лестнице и на террасах храма в Канди развешаны факелы. Их трепетный свет озарял торговые палатки сингалов, возле которых толпился народ, покупая свечи и белые цветки лотосов. Священники в шафранных одеждах встретили европейцев глубокими поклонами. Кинсли заговорил с ними на хиндустани; они отвечали на хорошем английском.
Настоятель показал им храмовую святыню – зуб Будды – и необыкновенную храмовую библиотеку, состоявшую из многих тысяч металлических табличек. Кинсли завел с ним разговор о пессимизме буддийской религии. Настоятель сравнивал ее с принципами Шопенгауэра и Платона. На удивленный вопрос Гэм он улыбнулся и кивнул на полку с европейскими книгами, зачитанными буквально до дыр.