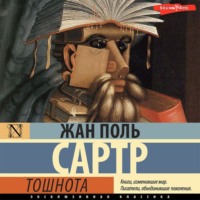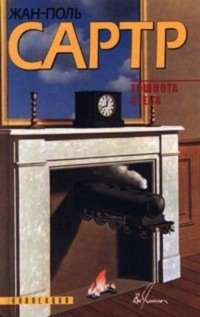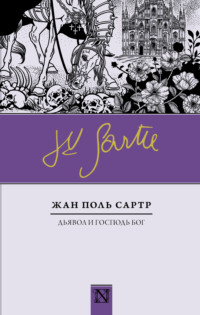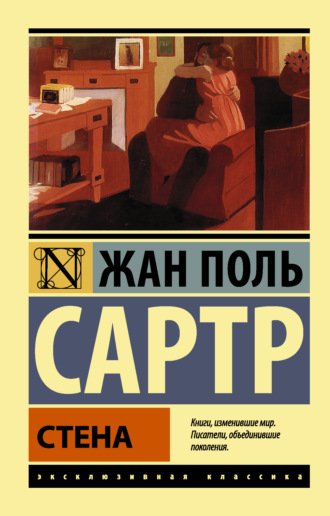
Полная версия
Стена
Внезапно бельгийцу пришла в голову блестящая мысль.
– Друзья мои, – сказал он, – я готов взять на себя обязательство – если, конечно, военная администрация будет не против – передать несколько слов людям, которые вам дороги…
Том пробурчал:
– У меня никого нет.
Я промолчал. Том выждал мгновение, потом с любопытством спросил:
– Как, ты ничего не хочешь передать Конче?
– Нет.
Я не выносил подобных разговоров. Но тут, кроме себя, мне некого было винить: я говорил ему о Конче накануне, хотя обязан был сдержаться. Я пробыл с ней год. Еще вчера я положил бы руку под топор ради пятиминутного свидания с ней. Потому-то я и заговорил о ней с Томом: это было сильнее меня. Но сейчас я уже не хотел ее видеть, мне было бы нечего ей сказать. Я не хотел бы даже обнять ее: мое тело внушало мне отвращение, потому что оно было землисто-серым и липким, и я не уверен, что такое же отвращение мне не внушило бы и ее тело. Узнав о моей смерти, Конча заплачет, на несколько месяцев она утратит вкус к жизни. И все же умереть должен именно Я. Я вспомнил ее прекрасные нежные глаза: когда она смотрела на меня, что-то переходило от нее ко мне. Но с этим было покончено: если бы она взглянула на меня теперь, ее взгляд остался бы при ней, до меня он бы просто не дошел. Я был одинок.
Том тоже был одинок, но совсем по-другому. Он присел на корточки и с какой-то удивленной полуулыбкой стал разглядывать скамью. Он прикоснулся к ней рукой так осторожно, как будто боялся что-то разрушить, потом отдернул руку и вздрогнул. На месте Тома я не стал бы развлекаться разглядыванием скамьи, скорее всего это была все та же ирландская комедия. Но я тоже заметил, что предметы стали выглядеть как-то странно: они были более размытыми, менее плотными, чем обычно. Стоило мне посмотреть на скамью, на лампу, на кучу угольной крошки, как становилось ясно: меня не будет. Разумеется, я не мог четко представить свою смерть, но я видел ее повсюду, особенно в вещах, в их стремлении отдалиться от меня и держаться на расстоянии – они это делали неприметно, тишком, как люди, говорящие шепотом у постели умирающего. И я понимал, что Том только что нащупал на скамье СВОЮ смерть. Если бы в ту минуту мне даже объявили, что меня не убьют и я могу преспокойно отправиться восвояси, это не нарушило бы моего безразличия: ты утратил надежду на бессмертие, какая разница, сколько тебе осталось ждать – несколько часов или несколько лет. Теперь меня ничто не привлекало, ничто не нарушало моего спокойствия. Но это было ужасное спокойствие, и виной тому было мое тело: глаза мои видели, уши слышали, но это был не я – тело мое одиноко дрожало и обливалось потом, я больше не узнавал его. Оно было уже не мое, а чье-то, и мне приходилось его ощупывать, чтобы узнать, чем оно стало. Временами я его все же ощущал: меня охватывало такое чувство, будто я куда-то соскальзываю, падаю, как пикирующий самолет, я чувствовал, как бешено колотится мое сердце. Это меня отнюдь не утешало: все, что было связано с жизнью моего тела, казалось мне каким-то липким, мерзким, двусмысленным. Но в основном оно вело себя смирно, и я ощущал только странную тяжесть, как будто к груди моей прижалась какая-то странная гадина, мне казалось, что меня обвивает гигантский червяк. Я пощупал штаны и убедился, что они сырые: я так и не понял, пот это или моча, но на всякий случай помочился на угольную кучу.
Бельгиец вынул из кармана часы и взглянул на них. Он сказал:
– Половина четвертого.
Сволочь, он сделал это специально! Том так и подпрыгнул – мы как-то забыли, что время идет: ночь обволакивала нас своим зыбким сумраком, и я никак не мог вспомнить, когда она началась.
Маленький Хуан начал голосить. Он заламывал руки и кричал:
– Я не хочу умирать, не хочу умирать!
Простирая руки, он бегом пересек подвал, рухнул на циновку и зарыдал. Том взглянул на него помутневшими глазами: чувствовалось, что у него нет ни малейшего желания утешать. Да это было и ни к чему: хотя мальчик шумел больше нас, его страдание было менее тяжким. Он вел себя как больной, который спасается от смертельной болезни лихорадкой. С нами было куда хуже.
Он плакал, я видел, как ему было жалко себя, а о самой смерти он, в сущности, не думал. На мгновение, на одно короткое мгновение мне показалось, что я заплачу тоже, и тоже от жалости к себе. Но случилось обратное: я взглянул на мальчика, увидел его худые вздрагивающие плечи и почувствовал, что стал бесчеловечным – я был уже не в состоянии пожалеть ни себя, ни другого. Я сказал себе: ты должен умереть достойно.
Том поднялся, стал как раз под открытым люком и начал всматриваться в светлеющее небо. Я же продолжал твердить: умереть достойно, умереть достойно – больше я ни о чем не думал. Но с того момента, как бельгиец напомнил нам о времени, я невольно ощущал, как оно течет, течет и утекает капля за каплей. Было еще темно, когда Том сказал:
– Ты слышишь?
– Да.
Со двора доносились звуки шагов.
– Какого черта они там шатаются! Ведь не станут же они расстреливать нас в потемках.
Через минуту все стихло. Я сказал Тому:
– Светает.
Педро, позевывая, поднялся, задул лампу и обернулся к своему приятелю:
– Продрог как собака.
Подвал погрузился в сероватый полумрак. Мы услышали отдаленные выстрелы.
– Начинается, – сказал я Тому. – По-моему, они это делают на заднем дворе.
Том попросил у бельгийца сигарету. Я воздержался: не хотелось ни курева, ни спиртного. С этой минуты они стреляли беспрерывно.
– Понял? – сказал Том.
Он хотел что-то добавить, но замолк и посмотрел на дверь. Дверь отворилась, и вошел лейтенант с четырьмя солдатами. Том выронил сигарету.
– Стейнбок?
Том не ответил. Педро кивнул в его сторону.
– Хуан Мирбаль?
– Тот, что на циновке.
– Встать! – выкрикнул лейтенант.
Хуан не шелохнулся. Двое солдат схватили его под мышки и поставили на ноги. Но как только они его отпустили, Хуан снова упал. Солдаты стояли в нерешительности.
– Это уже не первый в таком виде, – сказал лейтенант. – Придется его нести, ничего, все будет в порядке.
Он повернулся к Тому:
– Выходи.
Том вышел, два солдата по бокам. Два других взяли Хуана за плечи и лодыжки и вышли вслед за ними. Хуан был в сознании, глаза широко раскрыты, по щекам текли слезы. Когда я шагнул к двери, лейтенант остановил меня:
– Это вы – Иббиета?
– Да.
– Придется подождать. За вами скоро придут.
Он вышел. Бельгиец и два охранника последовали за ним. Я остался один. Мне было не ясно, что происходит, я предпочел бы, чтоб они покончили со всем этим сразу. До меня доносились залпы, промежутки между ними были почти одинаковы. И каждый раз я вздрагивал. Хотелось выть и рвать на себе волосы. Но я стиснул зубы и сунул руки в карманы: надо держаться. Через час за мной пришли и провели на первый этаж в маленькую комнату, где пахло сигарами и было так душно, что я едва не задохся. Два офицера покуривали, развалясь в креслах, на коленях у них были разложены бумаги.
– Твоя фамилия Иббиета?
– Да.
– Где скрывается Рамон Грис?
– Не знаю.
Тот, что меня спрашивал, был толстенький коротышка. Глаза его жестко всматривались в меня из-под очков. Он сказал:
– Подойди.
Я подошел. Он поднялся и посмотрел на меня так свирепо, будто хотел, чтоб я провалился в преисподнюю, и начал выкручивать мне руки. Он делал это вовсе не потому, что желал причинить мне боль, он просто играл: ему было необходимо ощущать себя властелином. Он приблизил свое лицо и обдавал меня гнилостным дыханием. Это продолжалось с минуту, и я едва удерживался от смеха. Для того чтобы испугать человека, который сейчас умрет, нужно что-нибудь посильнее, так что тут он сыграл довольно слабо. Потом он резко оттолкнул меня и снова сел. Он сказал:
– Или ты, или он. Если скажешь, где он, будешь жить.
И все же этим типам в их галстуках и сапожищах тоже предстояло помереть. Правда, позже, чем мне, но, в сущности, не намного. Они выуживали из своих бумаг какие-то имена, они гонялись за людьми, чтобы посадить их или расстрелять: у них были свои взгляды на будущее Испании и на многое другое. Их деловитая прыть коробила меня и казалась комичной, они выглядели спятившими, и я не хотел бы оказаться на их месте.
Смехотворный толстяк-коротышка неотрывно смотрел на меня, похлопывая хлыстом по сапогу. Все его движения были точно рассчитаны: ему хотелось производить впечатление лютого зверя.
– Ну что, ты понял?
– Мне неизвестно, где сейчас Грис, – ответил я. – Может, в Мадриде.
Другой офицер вяло поднял руку. И эта вялость тоже была рассчитанной. Я отлично видел все их загодя продуманные приемы и поражался, что находятся люди, которым все это доставляет удовольствие.
– Мы даем вам четверть часа на размышление, – сказал он, – отведите его в бельевую, через четверть часа приведите обратно. Если будет запираться, расстреляйте немедленно.
Сволочи, они знали, что делают: я провел в ожидании ночь, потом меня заставили просидеть еще час в подвале, пока расстреливали Хуана и Тома, а теперь они намеревались запереть меня в бельевой – несомненно, они подготовили эту штуку еще вчера. Они решили, что нервы мои не выдержат всех этих проволочек и я сломаюсь. Но тут они дали маху. Разумеется, я знал, где скрывается Грис. Он прятался у своих двоюродных братьев, в четырех километрах от города. Так же хорошо я знал, что не выдам его убежище, если только они не начнут меня пытать (но, кажется, они об этом не помышляли). Все это было для меня стопроцентно ясно, не вызывало сомнений и, в общем, нисколько не интересовало. И все же мне хотелось понять, почему я веду себя так, а не иначе. Почему я предпочитаю сдохнуть, но не выдать Рамона Гриса? Почему? Ведь я больше не любил Рамона. Моя дружба к нему умерла на исходе ночи: тогда же, когда умерли моя любовь к Конче и мое желание жить. Конечно, я всегда его уважал: это был человек стойкий. И все-таки вовсе не потому я согласился умереть вместо него: его жизнь стоила мне дороже моей – любая жизнь не стоит ни гроша. Когда человека толкают к стене и палят по нему, пока он не издохнет: кто бы это ни был – я, или Рамон Грис, или кто-то третий – все в принципе равноценно. Я прекрасно знал, что он был нужнее Испании, но теперь мне было начхать и на Испанию, и на анархизм: ничто больше не имело значения. И все-таки я здесь, я могу спасти свою шкуру, выдав Рамона Гриса, но я этого не делаю. Мое ослиное упрямство казалось мне почти забавным. Я подумал: «Ну можно ли быть таким болваном!» Я даже как-то развеселился. За мной снова пришли и повели в ту же комнату. У ног моих прошмыгнула крыса, это меня тоже позабавило. Я обернулся к одному из фалангистов:
– Гляди, крыса.
Конвойный не ответил. Он был мрачен, он все принимал всерьез. Мной овладело желание расхохотаться, но я сдержался: побоялся, что если начну, то не смогу остановиться. Фалангист был усат. Я сказал ему:
– Сбрей усы, кретин.
Мне показалось смешным, что человек допускает еще при жизни, чтоб лицо его обрастало шерстью. Он лениво дал мне пинка, я замолчал.
– Ну что, – спросил толстяк, – ты надумал?
Я взглянул на него с любопытством, как смотрят на редкостное насекомое, и ответил:
– Да, я знаю, где он. Он прячется на кладбище. В склепе или в домике сторожа.
Мне захотелось напоследок разыграть их. Я хотел поглядеть, как они вскочат, нацепят свои портупеи и станут с деловым видом сыпать приказами. Они действительно повскакали с мест.
– Пошли. Молес, возьмите пятнадцать человек у лейтенанта Лопеса.
– Если это правда, – сказал коротышка, – я сдержу свое слово. Но если ты нас водишь за нос, тебе не поздоровится.
Они с грохотом выскочили из комнаты, а я остался мирно сидеть под охраной фалангистов. Время от времени я ухмылялся: забавно было представлять, как они мчатся во весь опор к кладбищу. Мне казалось, что я поступил очень остроумно. Я живо представлял, как они распахивают двери склепов, приподымают могильные камни. Я видел все это сторонним взглядом: упрямый арестант, вздумавший корчить из себя героя, солидные усатые фалангисты и люди в военной форме, шныряющие среди могил, – поистине уморительная картина. Через полчаса толстяк вернулся. Я подумал: сейчас он прикажет меня расстрелять. Остальные, очевидно, остались на кладбище. Но офицер внимательно поглядел на меня. Он вовсе не выглядел одураченным.
– Отведите его на главный двор, к остальным, – сказал он. – После окончания боевых действий его судьбу решит трибунал.
Я подумал, что не так его понял. Я спросил:
– Как, разве меня не расстреляют?
– Во всяком случае, не сейчас. И потом, это уже не по моей части.
Я все еще не понимал.
– Но почему?
Он молча передернул плечами, солдаты увели меня. На общем дворе толпилось около сотни арестованных: старики, дети. В полном недоумении я принялся бродить вокруг центральной клумбы. В полдень нас повели в столовую. Двое или трое пытались со мной заговорить. Очевидно, мы были знакомы, но я им не отвечал: я больше не понимал, где я и что. К вечеру во двор втолкнули дюжину новых арестантов. Среди них я узнал булочника Гарсиа. Он крикнул мне:
– А ты везучий! Вот уж не думал увидеть тебя живым.
– Они приговорили меня к расстрелу, – отозвался я, – а потом передумали. Не могу понять почему.
– Меня взяли в два часа, – сказал Гарсиа.
– За что?
Гарсиа политикой не занимался.
– Понятия не имею, – ответил Гарсиа, – они хватают каждого, кто думает не так, как они.
Он понизил голос:
– Грис попался.
Я вздрогнул.
– Когда?
– Сегодня утром. Он свалял дурака. В среду вдрызг разругался с братцем и ушел от него. Желающих его приютить было хоть отбавляй, но он никого не захотел ставить под удар. Он сказал мне: «Я бы спрятался у Иббиеты, но раз его арестовали, спрячусь на кладбище».
– На кладбище?
– Да. Нелепая затея. А сегодня утром они туда нагрянули. Накрыли его в домике сторожа. Грис отстреливался, и они его прихлопнули.
– На кладбище!
Перед глазами у меня все поплыло, я рухнул на землю. Я хохотал так неудержимо, что из глаз хлынули слезы.
Комната
IМадам Дарбеда держала в пальцах рахат-лукум. Она осторожно приблизила его к губам и задержала дыхание, опасаясь, что взлетит легкая сахарная пудра. Она подумала: «Этот рахат-лукум из лепестков розы». Потом резко прокусила стекловидную плоть, запах гнили тотчас заполнил ее рот. «Любопытно, как болезнь утончает ощущения». Мадам Дарбеда вспомнила мечети и слащавых, покорных людей Востока (она провела в Алжире свое свадебное путешествие), и на ее бледных губах возникло подобие улыбки: рахат-лукум был тоже сладок и покорен.
Пришлось несколько раз провести ладонью по страницам книги, так как, несмотря на предосторожность, они покрылись тонким слоем белой сахарной пыли. Под руками мадам Дарбеда на гладкой бумаге похрустывали маленькие крупицы сахара. «Это напоминает мне Аркашон, когда я читала на пляже…» Лето 1907 года она провела на берегу моря. Она носила тогда широкополую соломенную шляпу с зеленой лентой; мадам Дарбеда располагалась около дамбы с романом Жип или Колетт. Ветер швырял на ее колени горсти песка, и время от времени она трясла книгу, держа ее за углы. То же самое ощущение: только песчинки были совсем сухие, а маленькие пылинки сахара немного прилипали к пальцам. Она вновь представила полоску жемчужно-серого неба над темным морем. Ева тогда еще не родилась. Мадам Дарбеда была доверху заполнена воспоминаниями и ощущала себя драгоценной, как сандаловая шкатулка. Внезапно в ее памяти всплыло название романа: он назывался «Маленькая женщина» и был занятным. Но с тех пор, как непонятный недуг приковал ее к этой комнате, мадам Дарбеда предпочитала мемуары и исторические опусы. Ей хотелось, чтобы благодаря своим страданиям, серьезному чтению, сосредоточенным воспоминаниям и прихотливым ассоциациям она вызревала как прекрасный оранжерейный плод.
Она подумала немного раздраженно, что скоро в дверь постучит ее муж. В остальные дни недели он приходил только к вечеру, молча целовал ее в лоб и, усевшись напротив нее в глубоком кресле, читал «Тан». Но четверг был «днем» месье Дарбеда. В течение часа он должен был быть у дочери – обычно с трех до четырех. Перед этим он заходил к жене, и оба они с горечью говорили о зяте. Эти разговоры по четвергам, известные заранее до мельчайших деталей, изнуряли мадам Дарбеда. Месье Дарбеда переполнял спокойную комнату своим присутствием. Он непрерывно шагал взад-вперед, делал резкие повороты. Его повадки ранили мадам Дарбеда, как звон разбитого стекла. В этот же четверг было еще хуже, чем обычно: при одной мысли, что сегодня ей придется повторить мужу признание Евы и увидеть, как его большое устрашающее тело подпрыгнет от ярости, ей становилось дурно. Ее прошибло потом. Она взяла с блюдца рахат-лукум, нерешительно рассматривала его несколько мгновений, затем грустно положила назад: ей не хотелось, чтобы муж видел, как она лакомится этой сластью.
Услышав его стук, она вздрогнула.
– Входи, – сказала она слабым голосом.
Месье Дарбеда вошел на цыпочках.
– Сейчас пойду к Еве, – сказал он, как обычно.
Мадам Дарбеда улыбнулась.
– Поцелуй ее за меня.
Месье Дарбеда не ответил, озабоченно наморщив лоб: в каждый четверг, в один и тот же час он ощущал глухое раздражение и одновременно тяжесть в желудке.
– Потом зайду навестить Франшо, я попрошу его серьезно с ней поговорить, сделать еще одну попытку.
Он часто посещал доктора Франшо. И все напрасно. Мадам Дарбеда подняла брови. Раньше, когда она была здорова, то часто пожимала плечами. Но с тех пор, как болезнь опутала ее тело, она заменила утомительные жесты игрой лица: она говорила «да» глазами, «нет» уголками губ, поднимала брови вместо плеч.
– Любой ценой Еву необходимо у него отнять.
– Я тебе уже говорил, что это невозможно. Наши законы несовершенны. Франшо однажды признался мне, что у них невообразимые неприятности с семьями: люди не решаются отдать больного, у врачей связаны руки, они могут лишь высказать свое мнение, не больше. Нужно, чтоб он устроил публичный скандал или чтоб она сама попросила о его помещении в клинику.
– Но это будет нескоро.
– Увы.
Он обернулся к зеркалу, запустил пальцы в бороду и начал ее расчесывать. Мадам Дарбеда бесстрастно смотрела на его красный мощный затылок.
– Если она не решится, – сказал месье Дарбеда, – то свихнется сама. Все это ужасно. Она его не покидает ни на минуту, выходит только проведать тебя, никого не принимает. В их комнате просто нельзя продохнуть. Она никогда не открывает окно, потому что Пьер этого не хочет. Как будто нужно спрашивать разрешения у больного. Они жгут благовония, какую-то гадость в курильнице. Можно подумать, что заходишь в церковь. Ей-богу, иногда мне кажется… знаешь, у нее стали странные глаза.
– Не заметила, – не согласилась мадам Дарбеда. – По-моему, она выглядит как всегда, только грустна, но это естественно.
– Ева бледна как смерть. Спит ли она? Ест ли? Я не могу ее об этом спросить. Но уверен, что по ночам, когда Пьер рядом, она не смыкает глаз. – Он пожал плечами. – Мне кажется невероятным, что мы, ее родители, не имеем права защитить ее от нее самой. Уверяю тебя, за Пьером будут лучше ухаживать у Франшо. Там большой парк. И потом, я думаю, – добавил он, слегка улыбнувшись, – что он лучше найдет общий язык с себе подобными. Эти существа, как дети, их нужно оставлять в своей компании; у них что-то вроде масонского ордена. Именно туда следовало его поместить с самого начала ради него самого. Это, безусловно, было бы в его интересах. – После паузы он добавил: – Признаюсь тебе, мне тяжело сознавать, что она остается с Пьером наедине, особенно ночью. Представь, если что-нибудь случится… У Пьера ужасно противоестественный вид.
– Не знаю, – сказала мадам Дарбеда, – стоит ли тут беспокоиться, ведь такой вид был у него давно, всегда казалось, что он над всеми смеется. Бедный мальчик, – продолжала она, вздыхая, – с его гордыней дойти до такого! Он считал себя умнее всех. У него была манера всем говорить: «Вы правы», только чтоб избежать спора… Это для него счастье, что он не сознает своего положения.
Она с неудовольствием вспомнила его удлиненное ироническое лицо, всегда немного склоненное набок. В первое время замужества Евы мадам Дарбеда очень хотела установить с зятем задушевные отношения, но Пьер пресек ее усилия: он почти всегда молчал или с отсутствующим видом поспешно с ней соглашался.
Месье Дарбеда продолжал:
– Франшо пригласил меня посетить его клинику – она великолепна. Больные имеют отдельные комнаты, там кожаные кресла, как тебе нравятся, и диван-кровати. Есть даже теннисный корт, скоро будут строить бассейн.
Он остановился у окна и посмотрел сквозь стекло, немного раскачиваясь на своих кривых ногах. Потом ловко повернулся на каблуках, опустив плечи и засунув руки в карманы. Мадам Дарбеда почувствовала, что сейчас она покроется потом; каждый раз одно и то же: теперь он зашагает взад-вперед, как медведь в клетке, и при каждом шаге его башмаки будут скрипеть.
– Друг мой, – сказала она, – умоляю тебя, сядь! Ты меня утомляешь. – И поколебавшись, добавила: – Я должна тебе сказать нечто важное.
Месье Дарбеда сел в кресло, положив руки на колени; легкая дрожь пробежала по позвоночнику мадам Дарбеда: никуда не денешься, придется сказать все.
– Ты знаешь, – молвила она, смущенно кашлянув, – что во вторник я видела Еву. – Да.
– Мы болтали о разных пустяках, Ева была очень мила, я давно уже не видела ее такой сердечной. Я ее немного порасспрашивала, навела разговор на Пьера. И вот что я узнала, – добавила она смущенно, – Ева очень дорожит им.
– Мне это хорошо известно, черт возьми! – вскричал месье Дарбеда.
Он ее немного злил: ему всегда нужно было тщательно все объяснять, ставя точки над L Мадам Дарбеда мечтала жить и общаться с людьми более тонкими, чуткими, понимающими ее с полуслова.
– Но я хочу сказать, – продолжала она, – что она иначе дорожит им, чем нам кажется.
Месье Дарбеда завращал беспокойными и гневными глазами, так он делал всегда, когда не очень хорошо понимал какой-нибудь намек или околичность.
– Что ты имеешь в виду?
– Шарль, – сказала она, – не утомляй меня. Ты должен понимать, что мне как матери кое о чем трудно говорить впрямую.
– Не понимаю ни словечка из того, что ты мне рассказываешь, – сказал с раздражением месье Дарбеда. – Что ты имеешь в виду?
– Ладно, скажу, – сдалась она.
– Как, они еще… и сейчас?
– Да! Да! Да! – раздраженно выкрикнула она три маленьких резких слова.
Месье Дарбеда развел руками, склонил голову и замолчал.
– Шарль, – взволнованно сказала мадам Дарбеда, – я не должна была тебе это говорить. Но я не могла этого утаить от тебя.
– Наше дитя! – простонал он. – С этим сумасшедшим! Ведь он ее даже не узнает, он зовет ее Агатой. Нет, для этого нужно утратить последние остатки здравого смысла.
Он поднял голову и сурово посмотрел на жену.
– А ты уверена, что правильно ее поняла?
– В этом нет никакого сомнения, – заверила она, – я, как и ты, сначала не поверила ей, к тому же я ее не могу понять. При одной только мысли, что этот несчастный может притронуться… Нет, я все поняла правильно, – вздохнула она, – полагаю, что этим он ее и держит.
– Ты помнишь, – сказал месье Дарбеда, – что я тебе говорил, когда он пришел просить ее руки? Я сказал: «Думаю, что он слишком нравится Еве». А ты не захотела меня понять. – Вдруг он ударил кулаком по столу и побагровел. – Но это же разврат! Он заключает ее в объятия, целует, называя Агатой, несет всякую околесицу о летающих статуях и еще черт знает что! И она ему это позволяет! Но что их связывает? Пусть она его жалеет от всего сердца, но пусть она поместит его в клинику, где сможет видеть его каждый день, в добрый час. Нет, никогда бы не подумал… Я считал ее вдовой. Послушай, Жаннета, – сказал он серьезно, – я буду говорить откровенно: раз уж она так чувственна, я бы предпочел, чтоб она завела себе любовника!
– Шарль, замолчи! – возмутилась мадам Дарбеда.
Месье Дарбеда с усталым видом взял шляпу и трость, которые он, войдя, положил на круглый столик.
– После того, что ты мне сказала, – заключил он, – у меня почти не остается надежды. Но я все же поговорю с ней, потому что это мой долг.
Мадам Дарбеда постаралась побыстрее его спровадить.
– Знаешь, – сказала она, чтобы его подбодрить, – я все же надеюсь, несмотря на все это, у Евы больше упрямства, чем… другого. Она знает, что он неизлечим, и все же упорствует, она не хочет, чтобы диагноз еще раз подтвердили.
Месье Дарбеда задумчиво погладил бороду.
– Упрямство? Да, может быть. Ну что ж, если ты права, она в конце концов устанет. Он и всегда-то был не шибко общителен, а сейчас он и вовсе молчит. Когда я с ним здороваюсь, он мне молча протягивает вялую руку. Как только они остаются одни, он возвращается к своим навязчивым идеям: она мне сказала, что он кричит как резаный, потому что у него галлюцинации. Статуи. Они ему внушают страх, когда, жужжа, проносятся над ним. Он убежден, что они летают, глядя на него своими мертвыми белыми глазами. – Он надел перчатки и продолжил: – В конце концов, она устанет, говорю тебе. Но что если раньше она расстроит себе нервную систему? Я хотел бы, чтоб она хоть немного выходила, видела людей: возможно, она встретила бы какого-нибудь приятного молодого человека – вроде Шредера, который работает инженером у Симплона; кого-нибудь с будущим. Она иногда видела бы его то у одних, то у других знакомых и постепенно обвыклась бы с мыслью, что пора начинать новую жизнь.