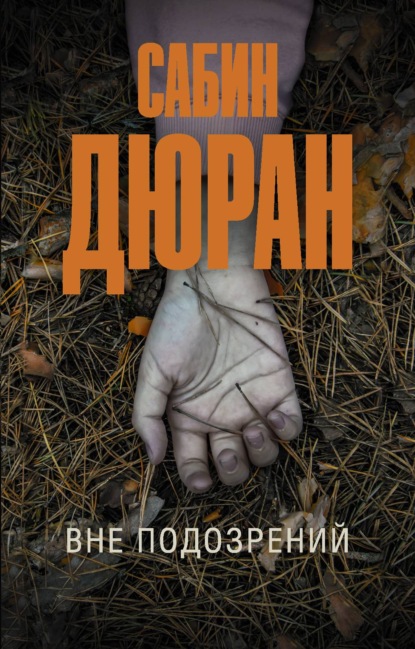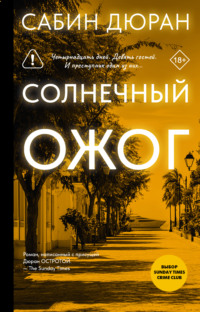Полная версия
Вне подозрений
– Вы живете неподалеку? – интересуюсь я.
– В Баттерси. – Он стоит ко мне спиной. – На той стороне станции Клэпхэм-Джанкшн.
– О, сторона что надо! Неплохой райончик! – Что я несу? Язык мой – враг мой.
– Красивая картинка. Дочка нарисовала?
Становится не по себе. Конечно, достаточно было ввести в поисковике «Габриэль Мортимер» – и наткнуться, например, на мое недавнее интервью для «Санди таймс» («Один день ее „дневной“ жизни»). Но когда люди, которых ты раньше в глаза не видел, столько о тебе знают, невольно испытываешь тревогу. Именно это я и пыталась втолковать прошлым летом констеблю, когда у меня объявился собственный сталкер (что же ты за звезда, если тебя никто не преследует?).
– Крейг Айтчисон. – Я подхожу к инспектору.
Незамысловатый фон – пластилиново-синее небо и желейно-зеленая трава. Собака. И дерево – заштрихованный конус, напоминающий кисточку художника. Обманчивая простота: на самом деле в фигуре собаки столько одиночества и созерцательности… Мне кажется, тут есть аналогия с Христом.
– Это бедлингтонский терьер, – добавляю я.
– Бедлингтонский, значит… Не просто какой-то потрепанный терьер. И снова оливковое дерево. Сюжет, конечно, тот еще.
– По-моему, это кипарис. Символ смерти и все такое… Муж купил картину сто лет назад, а когда Айтчисон умер, цены на него взлетели до потолка. Разумное капиталовложение.
– Разумное капиталовложение, – эхом повторяет Периваль, будто в жизни не слышал ничего глупее.
Моя следующая ремарка, по задумке, должна быть шутливой, но на деле, наверное, звучит обиженно:
– Четыре его картины выставлены в галерее Тейт, а одна есть даже у Элтона Джона.
Инспектор пожимает плечами. Он моложе, чем я думала. При первой встрече мне показалось, что ему за пятьдесят, а на самом деле – не больше сорока с хвостиком, мой ровесник. Его повадки; сутулость, призванная, вероятно, скрыть высокий рост; слегка обвисший подбородок, особенно заметный, когда Периваль растягивает губы, словно пытаясь избавиться от застрявших между зубов крошек, – все это добавляет ему лет. Каштановые волосы без намека на седину – а у Филиппа уже все виски подернуты серебром. Под резко очерченными скулами впадины. Нарастить бы ему пару килограммов, и детектив стал бы почти красавцем. Длинные волосы, сухопарость – ну просто денди, сбившийся с пути истинного.
«Так, хватит…» – мелькает в голове, и я спохватываюсь:
– Ах да, чай. С добавками подойдет? Или вы любите что-нибудь менее радикальное? – Господи, пристрелите меня!
– Все равно.
Наконец-то он занял место у стола, скинул куртку, аккуратно пристроил ее на спинку стула и теперь сквозь окно изучает наш сад за домом: красивая зеленая лужайка, до мелочей продуманный ландшафт, приподнятые клумбы, батут; закрепленный на хитроумных распорках-ходулях «домик на дереве», стоящий у забора, и ряд прикрывающих его грабов. Когда нам копали подвал, строители превратили весь двор в грязное месиво, поэтому Филипп решил, что будет нелишним переделать и сад.
Внимание Периваля приковывают кусты за окном. Мартовский ветер треплет их неистово, ветви хлещут друг друга. Для полицейских, видимо, это нормально – зацепиться глазами за какую-нибудь мелочь, даже не зная наверняка, окажется она важной или нет.
– Вы прикасались к телу?
Чашка с чаем едва не выскальзывает у меня из рук. Я как раз несу ее к столу, и горячая жидкость выплескивается на нежный треугольник кожи между большим и указательным пальцами:
– Ай!
Сую ладонь под кран, наблюдаю за тем, как вода обволакивает руку. Какое-то время я вижу и осознаю только это – воду и собственную кожу… Потом вспоминаются волосы той девушки, их гладкость, их шелковистость.
– К телу? Нет, тело я не трогала. – Я оборачиваюсь. Он смотрит на меня.
– Вы ее знали?
– Нет. – Я глубоко вдыхаю, отряхиваю руку. Наваждение прошло. – Я ведь вам уже говорила, инспектор, что никогда ее раньше не видела. Вам удалось выяснить, кто она такая?
– Пока что нет. Нет.
Я сажусь напротив Периваля на приставленную к столу скамейку, спиной к саду. И он приступает к опросу – к «легкой беседе». Предлагает бегло рассказать, как все было. Ничего не записывает. Понятно, что разговор неофициальный, но мне кажется, будто каждое мое слово взвешивается, каждый жест оценивается. У диалога есть свои правила: тот, кто слушает, должен смотреть на того, кто говорит; говорящему же можно смотреть в сторону. Инспектор уголовной полиции Периваль правилам этим подчиняться не желает, и из нас двоих именно я не отрываю от него взгляда. Но стоит мне замолчать, его глаза тут же в меня впиваются. И я теряюсь. Запрокидываю голову, собираю волосы в хвост, пытаюсь их закрутить, чтобы не мешали, – все это выглядит ужасно неестественно. Будто я хочу создать видимость спокойствия и уравновешенности. Прячу ладони в рукава джемпера, но скованность не проходит. Уж лучше застыть и не ерзать – именно такой совет мы даем нашим гостям в студии. Если по-другому никак, посидите сложа руки. Шею обдает жаром. Когда мой рассказ подходит к концу – все это слово в слово сегодня утром уже записывала констебль Морроу, – я признаюсь Перивалю, что рядом с ним почему-то чувствую себя виноватой, хочется оправдываться. Вот так же, бывает, невольно съеживаешься, когда минуешь охрану или фейсконтроль в дверях дорогого магазина.
– А что, частенько приходится?
– Что приходится?
– Бродить по дорогим магазинам.
Я игриво шлепаю его по руке. Какая неловкость… Короткие рукава рубашки инспектора открывают бледную, покрытую темными тонкими волосами кожу. Периваль смотрит на мои пунцовые ногти.
– «Исступление», лак «Опи», – отдергиваю я назад ладонь. – Так надо было для работы.
Он усмехается.
– Вы бы попили чаю. Увы, больше не знаю, чем помочь. Жаль, что я ничего стоящего не видела. Похоже, ваша поездка ко мне себя не оправдала. Бедная девушка…
– У меня такого не бывает – чтобы поездка себя не оправдала.
Ну конечно! Некоторые способны подняться в собственных глазах, лишь намекнув собеседнику на его ничтожность. Периваль напоминает моего бывшего шефа из «Панорамы», я тогда работала стажером. Колин Синклер – выпендрежные кожаные штаны и красный малютка «Сузуки-125».
– Ну-ну… Без комментариев, – многозначительно заявлял он в ответ на любое замечание, даже самое недвусмысленное и бесспорное.
Или когда у меня опаздывал поезд.
– Я вам верю. Но я – один на миллион.
Его страсть выискивать в человеке хоть самую незначительную слабину или червоточинку, в которую можно вцепиться зубами; видеть во всем только подтверждение своих идей и мнений – была сродни помешательству. Вот и этот полицейский, похоже, такой же.
Еще и тело… Неужели оно до сих пор в парке?
– Она еще там? В лесочке? Или уже нет? Понятия не имею, что происходит в таких случаях. – Я постукиваю по деревянному столу. – К счастью.
Он трет лицо:
– Тело мы забрали. На вскрытие.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Моя вина (лат.).