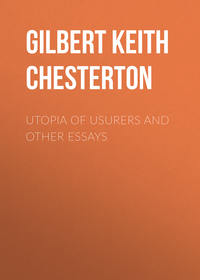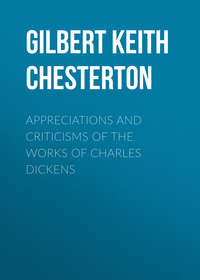Полная версия
Расследование отца Брауна (сборник)
Полковник Паунд с жадным интересом смотрел на него, но добрые серые глаза рассказчика были уставлены в потолок с каким-то смутным томлением.
– Преступление, – медленно продолжал он, – подобно любому другому произведению искусства. Не надо так удивляться! Преступления далеко не единственные художественные произведения, которые изготавливаются в мастерской дьявола. Но любое произведение искусства, божественное или демоническое, несет на себе одну непременную отметину. А именно: его смысл в сущности прост, какими бы сложностями не сопровождался акт творчества, есть единственный центр повествования. Возьмем, к примеру, историю Гамлета. Гротескная фигура могильщика, цветы сошедшей с ума девушки, лицемерные уловки Озрика, бледность призрака и оскал черепа в улыбке – все эти запутанные детали так или иначе завязаны вокруг одной трагической фигуры человека в черном. Могу теперь утверждать, – продолжал он, сползая со стойки, – что и сегодняшняя трагедия стала трагедией человека в черном. Да, так и есть, – поспешно добавил он, заметив удивление в глазах полковника, – центром всей истории стал черный костюм. В данном случае, как и в «Гамлете», сюжет украшен замысловатыми завитушками. К их числу, между прочим, относитесь и вы сами. Перед вами появляется мертвый официант, который никак не мог появиться. Невидимая рука сметает со стола ваше серебро и растворяется в воздухе. Но каждое умное преступление в конечном счете основано на единственном и очень простом действии, в котором нет уже ничего таинственного или мистического. Мистификация нужна лишь для сокрытия преступления, для того, чтобы отвлечь от него внимание и мысли людей. Данное тонкое, но крупное и (в привычном смысле слова) выгодное для грабителя преступление основывалось на том простом факте, что вечерний костюм джентльмена практически неотличим от костюма официанта. Все остальное – чисто актерская игра, пусть и очень хорошая.
– И все равно, – признался полковник, тоже вставая и разглядывая носы своих ботинок, – не уверен, что понял все.
– Суть в том, полковник, – сказал отец Браун, – что архангел дерзости, укравший ваше серебро, прошел по этому коридору двадцать раз при ярком свете ламп и на глазах у всех. Он не таился в темных углах, где вызывал бы неизбежные подозрения. Напротив, он постоянно перемещался по освещенному коридору, и в какой бы его части ни оказался, создавалось впечатление, что он находится там с полным на то основанием. А потому не спрашивайте меня, как он выглядел, поскольку вы сами видели его этим вечером шесть или семь раз. Вы вместе с остальными членами вашей великосветской компании собрались в одном конце коридора перед входом на террасу. И когда он проходил мимо вас, джентльмены, он делал это в торопливом стиле официанта: голова наклонена, через руку салфетка, быстрая и легкая поступь. Он вбегал на террасу, расправлял, допустим, складку на скатерти, а потом устремлялся назад в помещение для прислуги. Но к моменту, когда он оказывался на глазах распорядителя и других официантов, он превращался в совершенно иного человека, меняясь в каждом дюйме своего облика, в каждом вроде бы инстинктивном жесте. Он расхаживал среди обслуги с рассеянной наглостью, которую официанты так привыкли наблюдать в манерах своих богатых клиентов. Их не удивляло, что один из гостей желает пройтись по всему отелю, словно зверь по всему своему вольеру в зоопарке. Они привыкли, что одна из ярчайших примет принадлежности к привилегированному классу состоит в привычке разгуливать где заблагорассудится. И когда ему надоедало величественное шествие по той части коридора, он разворачивался и устремлялся в противоположный его конец, причем где-то как раз рядом с гардеробной он магическим образом менял облик и спешил оказаться среди двенадцати рыболовов в качестве угодливого слуги. С какой стати джентльменам обращать внимание на одного из официантов? И почему официанты должны относиться подозрительно к солидному джентльмену с величавой походкой и светскими манерами? Пару раз он даже решился на весьма рискованные трюки. Вошел в личный кабинет хозяина и небрежно попросил у распорядителя сифон с содовой водой – якобы ему захотелось пить. Причем добродушно согласился сам отнести его к столу, что и сделал. Уже под видом официанта пронес сифон на террасу мимо всех вас. А что? Официант выполняет обычное для себя поручение, только и всего. Разумеется, это не могло длиться вечно, но ему и нужно было всего лишь дождаться подачи рыбного блюда.
Отец Браун сделал паузу, чтобы перевести дух.
– Самым опасным моментом стало для него построение официантов вдоль стены, когда на террасу входили гости, но и тогда он ухитрился расположиться у самого угла таким образом, что в это важнейшее из мгновений официанты приняли его за одного из гостей, а гости за одного из официантов. Затем все пошло как по маслу. Если официант заставал его вдали от стола, то видел перед собой гордого аристократа. Ему нужно было уложиться ровно в две минуты, прежде чем реальный официант явился бы, что убрать со стола пустые рыбные тарелки, а потому он превратился в очень проворного слугу, чтобы успеть убрать их раньше. Тарелки он поставил на стойку, а серебро рассовал по карманам под фраком, от чего тот стал странным образом топорщиться на нем, а потом бросился бегом (я расслышал и это), пока не нашел гардеробную. Здесь ему снова пришлось разыграть из себя плутократа, которого срочно вызвали по делам. Ему оставалось только протянуть гардеробщику бумажку-номерок и изящной походкой покинуть отель, как он в него и вошел. Но вот беда – на месте гардеробщика оказался я.
– Как же вы с ним поступили? – воскликнул полковник с необычным напряжением в голосе. – И что он вам успел рассказать?
– Прошу прощения, – сказал священник невозмутимо, – но на этом моя история заканчивается.
– Но начинается самое интересное, – пробормотал Паунд. – Думаю, я понял его профессиональный трюк. Но для меня остался непостижимым ваш.
– Мне пора идти, – сказал отец Браун.
Они вместе добрались до входа на террасу, где увидели ясноглазое веснушчатое лицо герцога Честерского, шедшего с радостной улыбкой им навстречу.
– Идемте, Паунд! – воскликнул он. – Я повсюду разыскивал вас. Ужин продолжается с прежним блеском. Одли готовится произнести спич в ознаменование чудесного спасения серебряных приборов. Мы хотим создать новую традицию, знаете ли, каждый год празднуя такое выдающееся событие. Мы ведь вернули наше сокровище, что скажете?
– Скажу, – ответил полковник, глядя на юнца с несколько сардонической усмешкой, – что сам готов ввести новую традицию. Предлагаю отныне являться к обеду не в черных фраках, а в зеленых. Кто знает, какие еще недоразумения могут возникнуть, когда ты выглядишь так похоже на официанта.
– Да бросьте! – легкомысленно отмахнулся молодой человек. – Джентльмена никто и никогда не примет за официанта.
– Как и официанта за джентльмена, я полагаю, – добавил полковник с тем же саркастическим выражением на лице. – Вашему другу, святой отец, должно быть, нелегко далась роль джентльмена?
Отец Браун застегнул пуговицы на своем простеньком пальто до самой шеи, поскольку гроза на улице все-таки разыгралась, и вынул из стойки старый зонт.
– Верно, – сказал он, – это, вероятно, очень трудно – официанту изобразить из себя джентльмена. Но, чтобы вы знали, еще труднее джентльмену изобразить официанта. Вам так не кажется?
Отец Браун попрощался и вышел через громоздкие двери этого дворца наслаждений. Золотые ворота закрылись за его спиной, и он быстрыми шагами поспешил по мокрому тротуару в поисках остановки однопенсового омнибуса.
Летучие звезды
Пер. И. Бернштейн
«Мое самое красивое преступление, – любил рассказывать Фламбо в годы своей добродетельной старости, – было, по странному стечению обстоятельств, и моим последним преступлением. Я совершил его на Рождество. Как настоящий артист своего дела, я всегда старался, чтобы преступление гармонировало с определенным временем года или с пейзажем, и подыскивал для него, словно для скульптурной группы, подходящий сад или обрыв. Так, например, английских сквайров уместнее всего надувать в длинных комнатах, где стены обшиты дубовыми панелями, а богатых евреев, наоборот, лучше оставлять без гроша среди огней и пышных драпировок кафе «Риц». Если, например, в Англии у меня возникало желание избавить настоятеля собора от бремени земного имущества (что гораздо труднее, чем кажется), мне хотелось видеть свою жертву обрамленной, если можно так сказать, зелеными газонами и серыми колокольнями старинного городка. Точно так же во Франции, изымая некоторую сумму у богатого и жадного крестьянина (что почти невозможно), я испытывал удовлетворение, если видел его негодующую физиономию на фоне серого ряда аккуратно подстриженных тополей или величавых галльских равнин, которые так прекрасно живописал великий Милле[13].
Так вот, моим последним преступлением было рождественское преступление, веселое, уютное английское преступление среднего достатка – преступление в духе Чарльза Диккенса[14]. Я совершил его в одном хорошем старинном доме близ Путни[15], в доме с полукруглым подъездом для экипажей, в доме с конюшней, в доме с названием, которое значилось на обоих воротах, в доме с неизменной араукарией… Впрочем, довольно, – вы уже представляете себе, что это был за дом. Ей-богу, я тогда очень смело и вполне литературно воспроизвел диккенсовский стиль. Даже жалко, что в тот самый вечер я раскаялся и решил покончить с прежней жизнью».
И Фламбо начинал рассказывать всю эту историю изнутри, с точки зрения одного из героев; но даже с этой точки зрения она казалась по меньшей мере странной. С точки же зрения стороннего наблюдателя история эта представлялась просто непостижимой, а именно с этой точки зрения и должен ознакомиться с нею читатель.
Это произошло на второй день Рождества. Началом всех событий можно считать тот момент, когда двери дома отворились и молоденькая девушка с куском хлеба в руках вышла в сад, где росла араукария, покормить птиц. У девушки было хорошенькое личико и решительные карие глаза; о фигуре ее судить мы не можем – с ног до головы она была так укутана в коричневый мех, что трудно было сказать, где кончается лохматый воротник и начинаются пушистые волосы. Если б не милое личико, ее можно было бы принять за неуклюжего медвежонка.
Освещение зимнего дня приобретало все более красноватый оттенок по мере того, как близился вечер, и рубиновые отсветы на обнаженных клумбах казались призраками увядших роз. С одной стороны к дому примыкала конюшня, с другой начиналась аллея, вернее, галерея из сплетающихся вверху лавровых деревьев, которая уводила в большой сад за домом. Юная девушка накрошила птицам хлеб (в четвертый или пятый раз за день, потому что его съедала собака) и, чтобы не мешать птичьему пиршеству, пошла по лавровой аллее в сад, где мерцали листья вечнозеленых деревьев. Здесь она вскрикнула от изумления – искреннего или притворного, неизвестно, – ибо, подняв глаза, увидела, что на высоком заборе, словно наездник на коне, в фантастической позе сидит фантастическая фигура.
– Ой, только не прыгайте, мистер Крук! – воскликнула девушка в тревоге. – Здесь очень высоко.
Человек, оседлавший забор, точно крылатого коня, был долговязым, угловатым юношей с темными волосами, с лицом умным и интеллигентным, но совсем не по-английски бледным, даже бескровным. Бледность эту особенно подчеркивал красный галстук вызывающе яркого оттенка – единственная явно обдуманная деталь его костюма. Он не внял мольбе девушки и, рискуя переломать себе ноги, спрыгнул на землю с легкостью кузнечика.
– По-моему, судьбе угодно было, чтобы я стал вором и лазил в чужие дома и сады, – спокойно объявил он, очутившись рядом с нею. – И так бы, без сомнения, и случилось, не родись я в этом милом доме по соседству с вами. Впрочем, ничего дурного я в этом не вижу.
– Как вы можете так говорить? – с укором воскликнула девушка.
– Понимаете ли, если родился не по ту сторону забора, где тебе требуется, по-моему, ты вправе через него перелезть.
– Вот уж никогда не знаешь, что вы сейчас скажете или сделаете.
– Я и сам частенько не знаю, – ответил мистер Крук. – Во всяком случае, сейчас я как раз по ту сторону забора, где мне и следует быть.
– А по какую сторону забора вам следует быть? – с улыбкой спросила юная девица.
– По ту, где вы, – ответил молодой человек.
И они пошли назад по лавровой аллее. Вдруг трижды протрубил, приближаясь, автомобильный гудок: элегантный автомобиль светло-зеленого цвета, словно птица, подлетел к подъезду и, весь трепеща, остановился.
– Ого, – сказал молодой человек в красном галстуке, – вот уж кто родился с той стороны, где следует. Я не знал, мисс Адамс, что у вашей семьи столь новомодный Дед Мороз.
– Это мой крестный отец, сэр Леопольд Фишер. Он всегда приезжает к нам на Рождество.
И после невольной паузы, выдававшей недостаток воодушевления, Руби Адамс добавила:
– Он очень добрый.
Журналист Джон Крук был наслышан о крупном дельце из Сити, сэре Леопольде Фишере, и если крупный делец не был наслышан о Джоне Круке, то уж, во всяком случае, не по вине последнего, ибо тот неоднократно и весьма непримиримо отзывался о сэре Леопольде на страницах «Призыва» и «Нового века». Впрочем, сейчас мистер Крук не говорил ни слова и с мрачным видом наблюдал за разгрузкой автомобиля, – а это была длительная процедура. Сначала открылась передняя дверца, и из машины вылез высокий элегантный шофер в зеленом, затем открылась задняя дверца, и из машины вылез низенький элегантный слуга в сером, затем они вдвоем извлекли сэра Леопольда и, взгромоздив на крыльцо, стали распаковывать его, словно ценный, тщательно увязанный узел. Под пледами, столь многочисленными, что их хватило бы на целый магазин, под шкурами всех лесных зверей и шарфами всех цветов радуги обнаружилось наконец нечто, напоминающее человеческую фигуру, нечто, оказавшееся довольно приветливым, хотя и смахивающим на иностранца, старым джентльменом с седой козлиной бородкой и сияющей улыбкой, который стал потирать руки в огромных меховых рукавицах.
Но еще задолго до конца этой процедуры двери дома отворились и на крыльцо вышел полковник Адамс (отец молодой леди в шубке), чтобы встретить и ввести в дом почетного гостя. Это был высокий, смуглый и очень молчаливый человек в красном колпаке, напоминающем феску и придававшем ему сходство с английским сардаром или египетским пашой. Вместе с ним вышел его шурин, молодой фермер, недавно приехавший из Канады, – крепкий и шумливый мужчина со светлой бородкой, по имени Джеймс Блаунт. Их обоих сопровождала еще одна весьма скромная личность – католический священник из соседнего прихода. Покойная жена полковника была католичкой, и дети, как принято в таких случаях, воспитывались в католичестве. Священник этот был ничем не примечателен, даже фамилия у него была заурядная – Браун. Однако полковник находил его общество приятным и часто приглашал к себе.
В просторном холле было довольно места даже для сэра Леопольда и его многочисленных оболочек. Холл этот, непомерно большой для такого дома, представлял собой огромное помещение, в одном конце которого находилась наружная дверь с крыльцом, а в другом – лестница на второй этаж. Здесь, перед камином с висящей над ним шпагой полковника, процедура раздевания нового гостя была завершена, и все присутствующие, в том числе и мрачный Крук, были представлены сэру Леопольду Фишеру. Однако почтенный финансист все еще продолжал сражаться со своим безукоризненно сшитым одеянием. Он долго рылся во внутреннем кармане фрака и наконец, весь светясь от удовольствия, извлек оттуда черный овальный футляр, заключавший, как он пояснил, рождественский подарок для его крестницы. С нескрываемым и потому обезоруживающим тщеславием он высоко поднял футляр, так, чтобы все могли его видеть, затем слегка нажал пружину – крышка откинулась, и все замерли, ослепленные: фонтан кристаллизованного света вдруг забил у них перед глазами. На оранжевом бархате, в углублении, словно три яйца в гнезде, лежали три чистых сверкающих бриллианта, и казалось, даже воздух загорелся от их огня. Фишер стоял, расплывшись в благожелательной улыбке, упиваясь изумлением и восторгом девушки, сдержанным восхищением и немногословной благодарностью полковника, удивленными возгласами остальных.
– Пока что я положу их обратно, милочка, – сказал Фишер, засовывая футляр в задний карман своего фрака. – Мне пришлось вести себя очень осторожно, когда я ехал сюда. Имейте в виду, что это – три знаменитых африканских бриллианта, которые называются «летучими звездами», потому что их уже неоднократно похищали. Все крупные преступники охотятся за ними, но и простые люди на улице и в гостинице, разумеется, рады были бы заполучить их. У меня могли украсть бриллианты по дороге сюда. Это было вполне возможно.
– Я бы сказал, вполне естественно, – сердито заметил молодой человек в красном галстуке. – И я бы никого не стал винить в этом. Когда люди просят хлеба, а вы не даете им даже камня, я думаю, они имеют право сами взять себе этот камень.
– Не смейте так говорить! – с непонятной запальчивостью воскликнула девушка. – Вы говорите так только с тех пор, как стали этим ужасным… ну, как это называется? Как называют человека, который готов обниматься с трубочистом?
– Святым, – сказал отец Браун.
– Я полагаю, – возразил сэр Леопольд со снисходительной усмешкой, – что Руби имеет в виду социалистов.
– Радикал – это не тот, кто извлекает корни, – заметил Крук с некоторым раздражением, – а консерватор вовсе не консервирует фрукты. Смею вас уверить, что и социалисты совершенно не жаждут якшаться с трубочистами. Социалист – это человек, который хочет, чтобы все трубы были прочищены и чтобы всем трубочистам платили за работу.
– Но который считает, – тихо добавил священник, – что ваша собственная сажа вам не принадлежит.
Крук взглянул на него с интересом и даже с уважением.
– Кому может понадобиться собственная сажа? – спросил он.
– Кое-кому, может, и понадобится, – ответил Браун серьезно. – Говорят, например, что ею пользуются садовники. А сам я однажды на Рождество доставил немало радости шестерым ребятишкам, которые ожидали Деда Мороза, исключительно с помощью сажи, примененной как наружное средство.
– Ах, как интересно! – вскричала Руби. – Вот бы вы повторили это сегодня для нас!
Энергичный канадец мистер Блаунт возвысил свой и без того громкий голос, присоединяясь к предложению племянницы; удивленный финансист тоже возвысил голос, выражая решительное неодобрение, но в это время кто-то постучал в парадную дверь. Священник распахнул ее, и глазам присутствующих вновь представился сад с араукарией и вечнозелеными деревьями, теперь уже темнеющими на фоне великолепного фиолетового заката. Этот вид, как бы вставленный в раму раскрытой двери, был настолько красив и необычен, что казался театральной декорацией. Несколько мгновений никто не обращал внимания на человека, остановившегося на пороге. Это был, видимо, обыкновенный посыльный в запыленном поношенном пальто.
– Кто из вас мистер Блаунт, джентльмены? – спросил он, протягивая письмо. Мистер Блаунт вздрогнул и осекся, не окончив своего одобрительного возгласа. С недоуменным выражением он надорвал конверт и стал читать письмо; при этом лицо его сначала омрачилось, затем просветлело, и он повернулся к своему зятю и хозяину.
– Мне очень неприятно причинять вам столько беспокойства, полковник, – начал он с веселой церемонностью Нового Света, – но не злоупотреблю ли я вашим гостеприимством, если вечером ко мне зайдет сюда по делу один мой старый приятель? Впрочем, вы, наверно, слышали о нем – это Флориан, знаменитый французский акробат и комик. Я с ним познакомился много лет назад на Дальнем Западе (он по рождению канадец). А теперь у него ко мне какое-то дело, хотя убей не знаю какое.
– Полноте, полноте, дорогой мой, – любезно ответил полковник. – Вы можете приглашать кого угодно. К тому же он, без сомнения, будет как раз кстати.
– Он вымажет себе лицо сажей, если вы это имеете в виду, – смеясь, воскликнул Блаунт, – и всем наставит фонарей под глазами. Я лично не возражаю, я человек простой и люблю веселую старую пантомиму, в которой герой садится на свой цилиндр.
– Только не на мой, пожалуйста, – с достоинством произнес сэр Леопольд Фишер.
– Ну ладно, ладно, – весело вступился Крук, – не будем ссориться. Человек на цилиндре – это еще не самая низкопробная шутка!
Неприязнь к молодому человеку в красном галстуке, вызванная его грабительскими убеждениями и его очевидным ухаживанием за хорошенькой крестницей Фишера, побудила последнего заметить саркастически повелительным тоном:
– Не сомневаюсь, что вам известны и более грубые шутки. Не приведете ли вы нам в пример хоть одну?
– Извольте: цилиндр на человеке, – отвечал социалист.
– Ну, ну, ну! – воскликнул канадец с благодушием истинного варвара. – Не надо портить праздник. Давайте-ка повеселим сегодня общество. Не будем мазать лица сажей и садиться на шляпы, если вам это не по душе, но придумаем что-нибудь в том же роде. Почему бы нам не разыграть настоящую старую английскую пантомиму – с клоуном, Коломбиной и всем прочим? Я видел такое представление перед отъездом из Англии, когда мне было лет двенадцать, и у меня осталось о нем воспоминание яркое, как костер. А когда я в прошлом году вернулся, оказалось, что пантомим больше не играют. Ставят одни только плаксивые волшебные сказки. Я хочу видеть хорошую потасовку, раскаленную кочергу, полисмена, которого разделывают на котлеты, а мне преподносят принцесс, разглагольствующих при лунном свете, синих птиц и тому подобную ерунду. Синяя Борода – это по мне, да и тот нравится мне больше всего в виде Панталоне.
– Я всей душой поддерживаю предложение разделать полисмена на котлеты, – сказал Джон Крук, – это гораздо более удачное определение социализма, чем то, которое здесь недавно приводилось. Но спектакль – дело, конечно, слишком сложное.
– Да что вы! – с увлечением закричал на него мистер Блаунт. – Устроить арлекинаду? Ничего нет проще! Во-первых, можно нести любую отсебятину, а во-вторых, на реквизит и декорации сгодится всякая домашняя утварь – столы, вешалки, бельевые корзины и так далее.
– Да, это верно. – Крук оживился и стал расхаживать по комнате. – Только вот боюсь, что мне не удастся раздобыть полицейский мундир. Давно уж не убивал я полисмена.
Блаунт на мгновение задумался и вдруг хлопнул себя по ляжке.
– Достанем! – воскликнул он. – Тут в письме есть телефон Флориана, а он знает всех костюмеров в Лондоне. Я позвоню ему и велю захватить с собой костюм полисмена.
И он кинулся к телефону.
– Ах, как чудесно, крестный, – Руби была готова заплясать от радости, – я буду Коломбиной, а вы – Панталоне.
Миллионер выпрямился и замер в величественной позе языческого божества.
– Я полагаю, моя милая, – сухо проговорил он, – что вам лучше поискать кого-нибудь другого для роли Панталоне.
– Я могу быть Панталоне, если хочешь, – в первый и последний раз вмешался в разговор полковник Адамс, вынув изо рта сигару.
– Вам за это нужно памятник поставить, – воскликнул канадец, с сияющим лицом вернувшийся от телефона. – Ну вот, значит, все устроено. Мистер Крук будет клоуном – он журналист и, следовательно, знает все устаревшие шутки. Я могу быть Арлекином – для этого нужны только длинные ноги и умение прыгать. Мой друг Флориан сказал мне сейчас, что достанет по дороге костюм полисмена и переоденется. Представление можно устроить здесь, в этом холле, а публику мы посадим на ступеньки лестницы. Входные двери будут задником; если их закрыть, у нас получится внутренность английского дома, а открыть – освещенный луною сад. Ей-богу, все устраивается точно по волшебству.
И, выхватив из кармана кусок мела, унесенного из бильярдной, он провел на полу черту, отделив воображаемую сцену.
Как им удалось подготовить в такой короткий срок даже это дурацкое представление – остается загадкой. Но они принялись за дело с тем безрассудным рвением, которое возникает, когда в доме живет юность. А в тот вечер в доме жила юность, хотя не все, вероятно, догадались, в чьих глазах и в чьих сердцах она горела. Как всегда бывает в таких случаях, затея становилась все безумнее при всей буржуазной благонравности ее происхождения. Коломбина была очаровательна в своей широкой торчащей юбке, до странности напоминавшей большой абажур из гостиной. Клоун и Панталоне набелили себе лица мукой, добытой у повара, и накрасили щеки румянами, тоже позаимствованными у кого-то из домашних, пожелавшего (как и подобает истинному благодетелю-христианину) остаться неизвестным. Арлекина, уже нарядившегося в костюм из серебряной бумаги, извлеченной из сигарных ящиков, с большим трудом удалось остановить в тот момент, когда он собирался разбить старинную хрустальную люстру, чтобы украситься ее сверкающими подвесками. Он бы наверняка осуществил свой замысел, если бы Руби не откопала для него где-то поддельные драгоценности, украшавшие когда-то на маскараде костюм бубновой дамы. Кстати сказать, ее дядюшка Джеймс Блаунт до того разошелся, что с ним никакого сладу не было; он вел себя как озорной школьник. Он нахлобучил на отца Брауна бумажную ослиную голову, а тот терпеливо снес это и к тому же изобрел какой-то способ шевелить ее ушами. Блаунт сделал также попытку прицепить ослиный хвост к фалдам сэра Леопольда Фишера, но на сей раз его выходка была принята куда менее благосклонно.