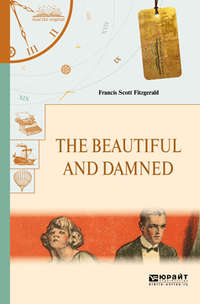Полная версия
По эту сторону рая
Все, чем студент младшего курса мог выделиться из толпы, клеймилось словом «высовываться». Насмешливые замечания в кино принимались как должное, но отпускать их без меры значило высовываться, обсуждать сравнительные достоинства клубов значило высовываться; слишком громко ратовать за что-нибудь, будь то вечеринки с выпивкой или трезвенность, значило высовываться. Короче говоря, привлекать внимание к своей особе считалось предосудительным, и уважением пользовались те, кто держался в тени – до тех пор, пока после выборов в клубы в начале второго учебного года каждый не оказывался при своем деле уже на все время пребывания в университете.
Эмори выяснил, что сотрудничество в «Нассауском литературном журнале» не сулит ничего интересного, зато место в редакционном совете «Принстонской газеты» – подлинно высокая марка. Смутные мечты о том, чтобы прославиться на спектаклях Английского драматического кружка, увяли, когда он установил, что лучшие умы и таланты сосредоточены в «Треугольнике» – клубе, ставившем музыкальные комедии с ежегодным гастрольным турне на рождественских каникулах. А пока, не находя себе места от одиночества и тревожной неудовлетворенности, строя и отметая все новые туманные замыслы, он весь первый семестр бездельничал, снедаемый завистью к чужим удачам, пусть даже самым пустячным, теряясь в догадках, почему их с Керри сразу не причислили к элите курса.
Много часов провели они у окон «Униви 12», глядя, как студенты идут в столовую, отмечая, как вожаки обрастают свитой, как спешат куда-то, не поднимая глаз от земли, одиночки зубрилы, с какой завидной уверенностью держатся группы тех, кто вместе кончал школу.
– Мы – тот самый злосчастный средний класс, вот в чем беда, – пожаловался он однажды неунывающему Керри, лежа на диване и методично закуривая одну сигарету от окурка другой.
– Ну и что же? Мы для того и уехали в Принстон, чтобы так же относиться к мелким университетам, кичиться перед ними: мол, и одеваемся лучше, и в себе уверены – в общем, задирать нос.
– Да я вовсе не против кастовой системы, – признался Эмори, – пускай будет правящая верхушка, кучка счастливчиков, только понимаешь, Керри, я сам хочу быть одним из них.
– А пока что, Эмори, ты всего-навсего недовольный буржуа.
Эмори отозвался не сразу.
– Ну, это ненадолго, – сказал он наконец. – Только очень уж я не люблю добиваться чего-нибудь тяжелым трудом. Это, понимаешь, оставляет на человеке клеймо.
– Почетные шрамы. – И вдруг Керри, изогнувшись, выглянул на улицу. – Вон, если интересуешься, идет Лангедюк, а следом за ним и Хамберд.
Эмори вскочил и бросился к окну.
– Да, – сказал он, разглядывая этих знаменитостей, – Хамберд – сила, это сразу видно, ну а Лангедюк – он, видно, играет в неотесанного. Я таким не доверяю. Любой алмаз кажется большим, пока не отшлифован.
– Тебе виднее, – сказал Керри, усаживаясь на место, – ведь ты у нас литературный гений.
– Я все думаю… – Эмори запнулся. – А может быть, правда? Иногда мне так кажется. Звучит это, конечно, безобразной похвальбой, я бы никому и не сказал, кроме тебя.
– А ты не стесняйся, валяй, отрасти волосы и печатай стихи в «Литературном», как Д’Инвильерс.
Эмори лениво протянул руку к стопке журналов на столе.
– Ты в последнем номере его читал?
– Никогда не пропускаю. Это, знаешь ли, пальчики оближешь.
Эмори раскрыл журнал и спросил удивленно:
– Он разве на первом курсе?
– Ага.
– Нет, ты только послушай. О господи! Говорит служанка:
Как черный бархат стелется над днем!В серебряной тюрьме белея, свечиКачают языки огня, как тени.О Пия, о Помпия, прочь уйдем…– Как это, черт возьми, понимать?
– Это сцена в буфетной.
Напряжена, как в миг полета птица,Лежит на белых простынях она;Как у святой, к груди прижаты руки…Явись, явись, прекрасная Куницца!– Черт, Керри, что это все значит? Я, честное слово, не понимаю, а я ведь тоже причастен к литературе.
– Да, закручено крепко, – сказал Керри. – Когда такое читаешь, надо думать о катафалках и о скисшем молоке. Но у него есть и почище.
Эмори швырнул журнал на стол.
– Просто не знаю, как быть, – вздохнул он. – Я, конечно, и сам с причудами, но в других этого терпеть не могу. Вот и терзаюсь – то ли мне развивать свой ум и стать великим драматургом, то ли плюнуть на словари и справочники и стать принстонским прилизой.
– А зачем решать? – сказал Керри. – Бери пример с меня, плыви по течению. Я-то приобрету известность, как брат Бэрна.
– Не могу я плыть по течению. Я хочу, чтобы мне было интересно. Хочу пользоваться влиянием, хотя бы ради других, стать или главным редактором «Принстонской», или президентом «Треугольника». Я хочу, чтобы мной восхищались, Керри.
– Слишком много ты думаешь о себе.
Это Эмори не понравилось.
– Неправда, я и о тебе думаю. Мы должны больше общаться, именно теперь, когда быть снобом занятно. Мне бы, например, хотелось привести на июньский бал девушку, но только если я смогу держать себя непринужденно, познакомить ее с нашими главными сердцеедами и с футбольным капитаном и все такое прочее.
– Эмори, – сказал Керри, теряя терпение, – ты ходишь по кругу. Если хочешь выдвинуться – займись чем-нибудь, а не можешь – так не ершись. – Он зевнул. – Выйдем-ка на воздух, а то всю комнату прокурили. Пошли смотреть футбольную тренировку.
Постепенно Эмори склонился к этой позиции, решил, что карьера его начнется с будущей осени, а пока можно, заодно с Керри, кое-чем поразвлечься и в стенах «Униви 12».
Они засунули в постель молодому еврею из Нью-Йорка кусок лимонного торта; несколько вечеров подряд, дунув на горелку у Эмори в комнате, выключали газ во всем доме, к несказанному удивлению миссис Двенадцать и домового слесаря; все имущество пьющих плебеев – картины, книги, мебель – они перетащили в ванную, чем сильно озадачили приятелей, когда те, прокутив ночь в Трентоне и еще не проспавшись, обнаружили такое перемещение; искренне огорчились, когда пьющие плебеи решили обратить все в шутку и не затевать ссоры; они с вечера до рассвета дулись в двадцать одно, банчок и «рыжую собаку», а одного соседа уговорили по случаю дня рождения закатить ужин с шампанским. Поскольку виновник торжества остался трезв, Керри и Эмори нечаянно столкнули его по лестнице со второго этажа, а потом, пристыженные и кающиеся, целую неделю ходили навещать его в больнице.
– Скажи ты мне, кто все эти женщины? – спросил однажды Керри, которому обширная корреспонденция Эмори не давала покоя. – Я тут смотрел на штемпели – Фармингтон и Добс, Уэстовер и Дана-Холл, – в чем дело?
Эмори ухмыльнулся.
– Это все более или менее в Миннеаполисе. – Он стал перечислять: – Вот это – Мэрилин де Витт, она хорошенькая, и у нее свой автомобиль, что весьма удобно; это – Салли Уэдерби, она растолстела, просто сил нет; это – Майра Сен-Клер, давнишняя пассия, позволяет себя целовать, если кому охота…
– Какой у тебя к ним подход? – спросил Керри. – Я и так пробовал, и этак, а эти вертихвостки меня даже не боятся.
– Ты – типичный «славный юноша», может, поэтому?
– Вот-вот. Каждая мамаша чувствует, что со мной ее дочка в безопасности. Даже обидно, честное слово. Если я пытаюсь взять девушку за руку, она смеется надо мной и не отнимает руку, как будто это посторонний предмет и к ней не имеет никакого отношения.
– А ты играй трагедию, – посоветовал Эмори. – Говори, что ты – неистовая натура, умоляй, чтобы она тебя исправила, взбешенный уходи домой, а через полчаса возвращайся – бей на нервы…
Керри покачал головой.
– Не выйдет. Я в прошлом году написал одной девушке серьезное любовное письмо. В одном месте сорвался и написал: «О черт, до чего я вас люблю!» Так она взяла маникюрные ножницы, вырезала «о черт», а остальное показывала всем одноклассницам. Нет, это безнадежно. Я для них просто «добрый славный Керри».
Эмори попробовал вообразить себя в роли «доброго славного Эмори». Ничего не получилось.
Настал февраль с мокрым снегом и дождем, ураганом пронеслась зимняя экзаменационная сессия, а жизнь в «Униви 12» текла все так же интересно, хоть и бессмысленно. Раз в день Эмори заходил поесть сэндвичей, корнфлекса и жюльена в картофеле «У Джо», обычно вместе с Керри или с Алексом Коннеджем. Последний был немногословный прилиза из школы Хочкисс, который жил в соседнем доме и, так же как Эмори, поневоле держался особняком, потому что весь его класс поступил в Йель. Ресторанчик «У Джо» не радовал глаз и не блистал чистотой, но там можно было подолгу кормиться в кредит, и Эмори ценил это преимущество. Его отец недавно провел какие-то рискованные операции с акциями горнопромышленной компании, и содержание, которое он определил сыну, было хотя и щедрое, но намного скромнее, чем тот ожидал.
«У Джо» было хорошо еще тем, что туда не заглядывали любознательные старшекурсники, так что Эмори, в обществе приятеля или книги, каждый день ходил туда, рискуя сгубить свое пищеварение. Однажды в марте, не найдя свободного столика, он уселся в углу зала напротив другого студента, прилежно склонившегося над книгой. Они обменялись кивками. Двадцать минут Эмори уплетал булочки с беконом и читал «Профессию миссис Уоррен» (на Бернарда Шоу он наткнулся случайно, когда во время сессии рылся в библиотеке); за это время его визави, тоже не переставая читать, уничтожил три порции взбитого молока с шоколадом.
Наконец Эмори стало любопытно, что тот читает. Он разобрал вверх ногами заглавие и фамилию автора «Марпесса», стихи Стивена Филлипса[6]. Это ничего ему не сказало, поскольку до сих пор его познания в поэзии сводились к хрестоматийной классике типа «Мод, сойди в тенистый сад» Теннисона и к навязанным ему на лекциях отрывкам из Шекспира и Мильтона.
Чтобы как-то вступить в разговор, он сперва притворно углубился в свою книгу, а потом воскликнул, как бы невольно:
– Да, вещь первый сорт!
Незнакомый студент поднял голову, и Эмори изобразил замешательство.
– Это вы про свою булочку? – Добрый, чуть надтреснутый голос как нельзя лучше гармонировал с большими очками и с выражением искреннего интереса ко всему на свете.
– Нет, – отвечал Эмори, – это я по поводу Бернарда Шоу. – Он указал на свою книгу.
– Я ничего его не читал, все собираюсь. – И продолжал после паузы: – А вы читали Стивена Филлипса? И вообще поэзию любите?
– Еще бы, – горячо отозвался Эмори. – Филлипса я, правда, читал немного. (Он никогда и не слышал ни о каком Филлипсе, если не считать покойного Дэвида Грэма[7].)
– По-моему, очень недурно. Хотя он, конечно, викторианец.
Они пустились в разговор о поэзии, попутно представились друг другу, и собеседником Эмори оказался «тот заумный Томас Парк Д’Инвильерс», что печатал страстные любовные стихи в «Литературном журнале». Лет девятнадцати, сутулый, голубоглазый, он, судя по общему его облику, не очень-то разбирался в таких захватывающих предметах, как соревнование за место в социальной системе, но литературу он любил, и Эмори подумал, что таких людей не встречал уже целую вечность. Если б только знать, что группа из Сент-Пола за соседним столом не принимает его самого за чудака, он был бы чрезвычайно рад этой встрече. Но те как будто не обращали внимания, и он дал себе волю – стал перебирать десятки произведений, которые читал, о которых читал, про которые и не слышал, – сыпал заглавиями без запинки, как приказчик в книжном магазине Брентано. Д’Инвильерс в какой-то мере поддался обману и возрадовался безмерно. Он уже почти пришел к выводу, что Принстон состоит наполовину из безнадежных филистеров, а наполовину из безнадежных зубрил, и встретить человека, который говорил о Китсе без ханжеских ужимок и в то же время явно привык мыть руки, было для него праздником.
– А Оскара Уайльда вы читали? – спросил он.
– Нет. Это чье?
– Это человек, писатель, неужели не знаете?
– Ах да, конечно. – Что-то слабо шевельнулось у Эмори в памяти. – Это не о нем была оперетка «Терпение»?
– Да, о нем. Я только что прочел одну его вещь, «Портрет Дориана Грея», и вам очень советую. Думаю, что понравится. Если хотите, могу дать почитать.
– Ну конечно, спасибо, очень хочу.
– Может быть, зайдете ко мне? У меня и еще кое-какие книги есть.
Эмори заколебался, бросил взгляд на компанию из Сент-Пола – среди них был и великолепный, неподражаемый Хамберд – и прикинул, что ему даст приобретение этого нового друга. Он не умел, и так никогда и не научился, заводить друзей, а потом избавляться от них – для этого ему не хватало твердости, так что он мог только положить на одну чашу весов бесспорную привлекательность и ценность Томаса Парка Д’Инвильерса, а на другую – угрозу холодных глаз за роговыми очками, которые, как ему казалось, следили за ним через проход между столиками.
– Зайду с удовольствием.
Так он обрел «Дориана Грея», и «Деву скорбей Долорес», и «La belle dame sans merci»[8]. Целый месяц он только ими и жил. Весь мир стал увлекательно призрачным, он пытался смотреть на Принстон пресыщенным взглядом Оскара Уайльда и Суинберна, или «Фингала О’Флаэрти» и «Элджернона Чарльза», как он их называл с претенциозной шутливостью. До поздней ночи он пожирал книги – Шоу, Честертона, Барри, Пинеро, Йейтса, Синга, Эрнеста Доусона, Артура Саймонса, Китса, Зудермана, Роберта Хью Бенсона, «Савойские оперы» – все подряд, без разбора: почему-то ему вдруг показалось, что он годами ничего не читал.
Томас Д’Инвильерс стал сначала не столько другом, сколько поводом. Эмори виделся с ним примерно раз в неделю, они вместе позолотили потолок в комнате Тома, обили ее фабричными гобеленами, купленными на распродаже, украсили высокими подсвечниками и узорными занавесями. Эмори привлекали в Томе ум и склонность к литературе без тени изнеженности или аффектации. Из них двоих больше пыжился сам Эмори. Он старался, чтобы каждое его замечание звучало как эпиграмма, что не так уж трудно, если относиться к искусству эпиграммы не слишком взыскательно. В «Униви 12» все это было воспринято как новая забава.
Керри прочел «Дориана Грея» и изображал лорда Генри – ходил за Эмори по пятам, называл его «Дориан» и делал вид, что поощряет его порочные задатки и томный, скучающий цинизм. Когда Керри вздумал разыграть эту комедию в столовой, к великому изумлению окружающих, Эмори от смущения страшно обозлился и в дальнейшем блистал эпиграммами только при Томе Д’Инвильерсе или у себя перед зеркалом.
Однажды Том и Эмори попробовали читать стихи – свои и лорда Дансэни – под музыку, для чего был использован граммофон Керри.
– Давай нараспев! – кричал Том. – Ты не урок отвечаешь. Нараспев!
Эмори, выступавший первым, надулся и заявил, что не годится пластинка – слишком много рояля. Керри в ответ стал кататься по полу, давясь от смеха.
– А ты заведи «Цветок и сердце», – предложил он. – Ой, не могу, держите меня!
– Выключите вы этот чертов граммофон! – воскликнул Эмори, весь красный от досады. – Я вам не клоун в цирке.
Тем временем он не оставлял попыток деликатно открыть Д’Инвильерсу глаза на пресловутую социальную систему, – он был уверен, что, по существу, в этом поэте меньше от бунтаря, чем в нем самом, и стоит ему прилизать волосы, ограничить себя в разговорах и завести шляпу потемнее оттенком, как любой ревнитель условностей признает его своим. Однако нотации на тему о фасоне воротничков и строгих галстуках Том пропускал мимо ушей, даже отмахивался от них, и Эмори отступился – только наведывался к нему раз в неделю да изредка приводил его в «Униви 12». Насмешники соседи прозвали их Доктор Джонсон и Босуэлл[9].
Алек Коннедж, чаще заходивший в гости, в общем относился к Д’Инвильерсу хорошо, но побаивался его как «заумного». Керри, разглядевший за его болтовней о поэзии крепкую, почти респектабельную сердцевину, от души наслаждался и, заставляя его часами читать стихи, лежал с закрытыми глазами у Эмори на диване и слушал:
Она проснулась или спит? На шееСлед пурпурный лобзанья все виднее;Кровь из него сочится – и онаОт этого прекрасней и нежнее…– Это здорово, – приговаривал он вполголоса. – Это старший Холидэй одобряет. По всему видно, великий поэт.
И Том, радуясь, что нашлась публика, без устали декламировал «Поэмы и баллады», так что Керри и Эмори скоро уже знали их почти так же хорошо, как он сам.
Весной Эмори принялся сочинять стихи в садах больших поместий, окружающих Принстон, где лебеди на глади прудов создавали подходящую атмосферу и облака неспешно и стройно проплывали над ивами. Май наступил неожиданно быстро, и, вдруг почувствовав, что стены не дают ему дышать, он стал бродить по университетскому городку в любое время дня и ночи, под звездами и под дождем.
Влажная символическая интерлюдия
Пала ночная мгла. Она волнами скатилась с луны, покружилась вокруг шпилей и башен, потом осела ближе к земле, так что сонные пики по-прежнему гордо вонзались в небо. Фигуры людей, днем сновавшие, как муравьи, теперь мелькали на переднем плане подобно призракам. Таинственнее выглядели готические здания, когда выступали из мрака, прорезанные сотнями бледно-желтых огней. Вдали, непонятно где, пробило четверть, и Эмори, дойдя до солнечных часов, растянулся на влажной траве. Прохлада освежила его глаза и замедлила полет времени – времени, что украдкой пробралось сквозь ленивые апрельские дни, неуловимо мелькнуло в долгих весенних сумерках. Из вечера в вечер над университетским городком красиво и печально разносилось пение старшекурсников, и постепенно, пробившись сквозь грубую оболочку первого курса, в душу Эмори снизошло благоговение перед серыми стенами и шпилями, символическими хранителями духовных ценностей минувших времен.
Башня, видная из его окна, шпиль которой тянулся все выше и выше, так что верхушка его была едва различима на фоне утреннего неба, – вот что впервые навело его на мысль о том, как недолговечны и ничтожны люди, если не видеть в них преемников и носителей прошлого. Ему приятно было узнать, что готическая архитектура, вся устремленная ввысь, особенно подходит для университетов, и он ощутил это как собственное открытие. Ровные лужайки, высокие темные окна – лишь редко где горит свет в кабинете ученого – крепко завладели его воображением, и символом этой картины стала чистая линия шпиля.
– К черту, – произнес он громким шепотом, смочив ладони о влажную траву и приглаживая волосы. – С будущего года берусь за дело.
И однако он знал, что дух шпилей и башен, сейчас вселивший в него мечтательную готовность к действию, отпугнет его, когда придет время. Пусть сейчас он сознает только свою незначительность – первое же усилие даст ему почувствовать, как он слаб и безволен.
Принстон спал и грезил – грезил наяву. Эмори ощутил какую-то нервную дрожь – может быть, отклик на неспешное биение университетского сердца. Река, в которую ему предстоит бросить камень, и еле видные круги от него почти тотчас исчезнут. До сих пор он не дал ничего. И не взял ничего.
Запоздалый первокурсник, шурша клеенчатым плащом, прошлепал по отсыревшей дорожке. Где-то под невидимым окном прозвучало неизбежное «Подойди на минутку». И до сознания его наконец дошли сотни мельчайших звуков, заполнивших пелену тумана.
– О господи! – воскликнул он вдруг и вздрогнул от звука собственного голоса.
Моросил дождь. Еще минуту Эмори лежал неподвижно, сжав кулаки. Потом вскочил, ощупал себя и сказал вслух, обращаясь к солнечным часам:
– Промок до нитки!
Немножко истории
Летом того года, когда Эмори перешел на второй курс, в Европе началась война. Бросок немецких войск на Париж вызвал у него чисто спортивный интерес, в остальном же он остался спокоен. Подобно зрителю, забавляющемуся мелодрамой, он надеялся, что спектакль будет длинный и крови прольется достаточно. Если бы война тут же кончилась, он разозлился бы, как человек, купивший билет на состязание в боксе и узнавший, что противники отказались драться.
А больше он ничего не понял и не почувствовал.
«Ого-Гортензия!»
– Эй, фигурантки!
– Начинаем!
– Эй, фигурантки, может, хватит дуться в кости, время-то не ждет.
– Ну же, фигурантки?
Режиссер бестолково бушевал, президент клуба «Треугольник», сам не свой от волнения, то разражался властными выкриками, то в полном изнеможении валился на стул, уверяя себя, что никаким чудом им не успеть подготовить спектакль к началу каникул.
– Ну, так. Репетируем песню пиратов.
Фигурантки, затянувшись напоследок сигаретами, заняли свои места; премьерша выбежала на передний план, грациозно жестикулируя руками и ногами, и под хлопки режиссера, громко отбивавшего такт, танец, плохо ли, хорошо ли, был исполнен.
Клуб «Треугольник» являл собой подобие огромного растревоженного муравейника. Каждый год он ставил музыкальную комедию, и в течение всех зимних каникул труппа, хор, оркестр и декорации разъезжали из города в город. Текст и музыку писали сами студенты. Клуб пользовался громкой славой: больше трехсот желающих ежегодно домогались чести стать его членами.
Эмори, с легкостью пройдя в первом же туре второго курса в редакционный совет «Принстонской газеты», вдобавок был введен в труппу на роль пирата по кличке Кипящий Вар. Последнюю неделю они репетировали «Ого-Гортензию!» ежедневно, с двух часов дня до восьми утра, поддерживая себя крепким кофе, а в промежутке отсыпаясь на лекциях. Поразительную картину являл собой зал, где шли репетиции. Большое помещение, похожее на сарай, и в нем – студенты-пираты, студенты-девушки, студенты-младенцы; с грохотом воздвигаются декорации; осветитель, проверяя прожектор, направляет слепящие лучи прямо в чьи-то негодующие глаза; и все время либо настраивается оркестр, либо звучит лихая клубная песня. Студент, который сочиняет вставные стихи, стоит в углу и грызет карандаш: через двадцать минут должны быть готовы еще два куплета – для биса. Казначей и секретарь спорят о том, сколько денег можно истратить на «эти чертовы костюмы для фермерских дочек»; ветеран, бывший президентом клуба в 98-м году, уселся на высокий ящик и вспоминает, насколько проще все это было в его время.
Как «Треугольнику» вообще удавалось подготовить спектакль – это покрыто тайной, но сама подготовка велась азартно, независимо от того, кто из участников заслужит право носить брелок в виде крошечного золотого треугольника. «Ого-Гортензию!» переписывали шесть раз, и на программах значились фамилии всех девяти авторов. Каждая постановка «Треугольника» в первом варианте преподносилась как «что-то новое, не просто еще одна музыкальная комедия», но, пройдя через руки нескольких авторов, режиссера, президента и факультетской комиссии, сводилась все к тем же старым, проверенным канонам, с теми же старыми, проверенными шутками, и так же буквально накануне отъезда оказывалось, что главный комик не то исключен, не то заболел, и так же ругали брюнета из состава фигуранток за то, что «он, черт его дери, не желает бриться два раза в день».
В «Ого-Гортензии!» был один блестящий эпизод. В Принстоне существует поверье, что, когда питомец Йеля, член прославленного клуба «Череп и кости», слышит упоминание этого священного братства, он обязан покинуть помещение. Существует и другое поверье: что эти люди неизменно достигают больших успехов в жизни – собирают уйму денег, или голосов, или купонов – словом, того, что надумают собирать. И вот на каждом представлении «Ого-Гортензии!» шесть билетов не пускали в продажу, а на непроданные места сажали самых страшных оборванцев, каких удавалось нанять на улице, да еще приукрашенных стараниями клубного гримера. Когда по ходу действия «Арбалет, глава пиратов» говорит, указуя на свой черный флаг: «Я окончил Йель – вот они. Череп и кости!» – шести оборванцам было предписано демонстративно встать и выйти из зала, всем своим видом выражая глубокую печаль и оскорбленное достоинство. Утверждали, впрочем без достаточных оснований, что был случай, когда к шести подставным питомцам Йеля присоединился один настоящий.
За время каникул они выступали перед избранной публикой в восьми городах. Эмори больше всего понравились Луисвилл и Мемфис: здесь умели встретить гостей, варили сногсшибательный пунш и предлагали взорам поразительное количество красивых женщин. Чикаго он одобрил за особый задор, выражавшийся не только в громком вульгарном говоре, но поскольку Чикаго тяготел к Йелю и через неделю туда должен был прибыть йельский клуб «Веселье», принстонцам досталась только половина оваций. В Балтиморе они чувствовали себя как дома и все поголовно влюбились. Крепкие напитки потреблялись там в изобилии; кто-нибудь из актеров неизменно выходил на сцену в подпитии и потом уверял, что этого требовала его трактовка роли. В их распоряжении было три железнодорожных вагона, но спали только в третьем, так называемом телячьем, куда запихнули оркестрантов. Все происходило в такой спешке, что скучать было некогда, но когда они, уже к самому концу каникул, прибыли в Филадельфию, приятно было отдохнуть от спертой атмосферы цветов и грима, и фигурантки со вздохом облегчения сняли корсеты с натруженных животов.