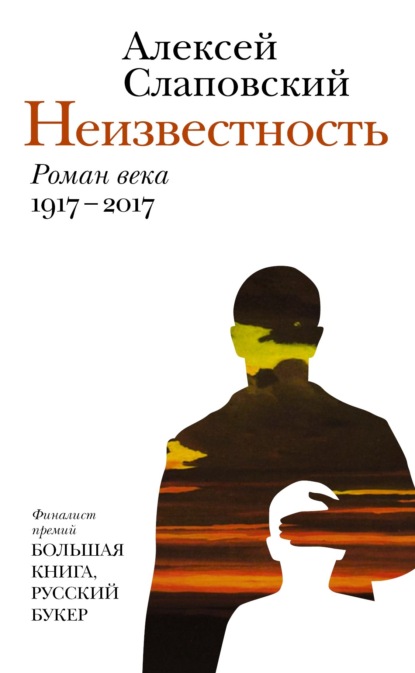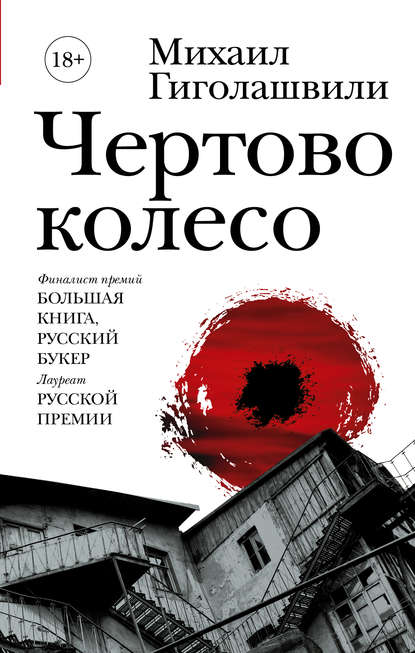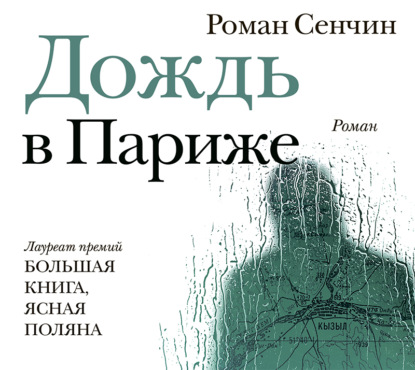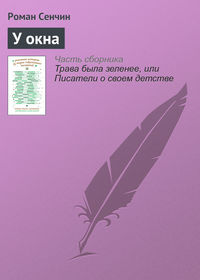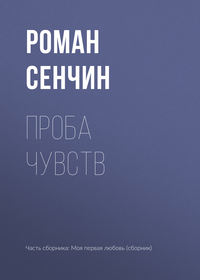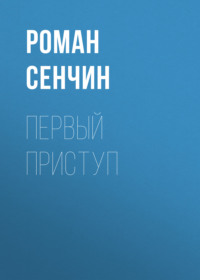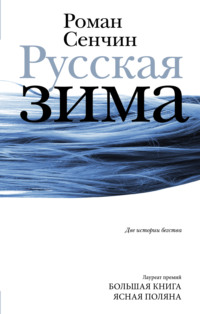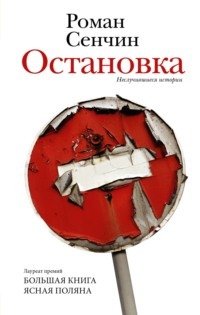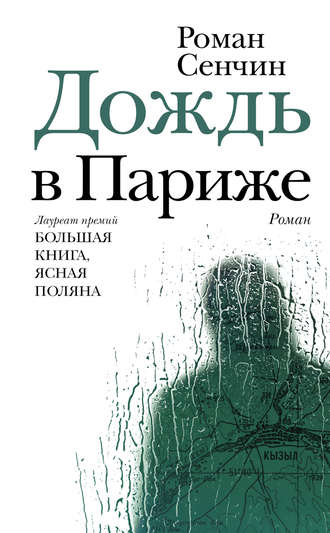
Полная версия
Дождь в Париже
«Гремела музыка…» Нет, музыка не гремела, какие бы мощные ни качали звук колонки. Музыка лилась. Та музыка – лилась. Нежная, сладко-грустноватая. От нее хотелось и плакать, и обнимать, гладить, любить. Диско… Названия групп и фамилии исполнителей передавали друг другу с придыханием, как нечто секретное, святое.
«Модерн Токинг», «Джой», Си Си Кейч, «Арабески», «Пет Шоп Бойз», «Бэд Бойз Блю»…
«А это, – уловив первые аккорды, шептал кто-нибудь дрожащим голосом, – Лиан Росс. Это вообще…» И скорее искал девушку, к которой можно прижаться и затоптаться в блестках под песню, в которой даже слабо-слабо знающий английский мог расслышать: «Скажи, что ты никогда, никогда, никогда не покинешь меня». И хочется ответить той, с кем танцуешь: «Никогда не покину».
Иногда, редко, звучало диско на русском. Переводы Сергея Минаева песен «Модерна» на дискачах ненавидели и свистели, требуя убрать, зато каждая композиция «Миража» вызывала восторженный визг девушек, срывающихся с сидений в центр танцевального зала.
Топкин в то время, году в восемьдесят восьмом, не особенно вслушивался в слова и не мог понять, почему девчонки так любят «Мираж». Потом уже, обзаведясь магнитофоном и кассетой с альбомом «Звезды нас ждут сегодня», понял: тексты-то, смысл такой смелый, протестный просто! Парни по квартирам слушали и сжимали кулаки под цоевское «Перемен!», а девчонки томились в ожидании перемен под спрятанное за красивой мелодией, но спетое каким-то неживым, потусторонним голосом: «Завтра улечу в солнечное лето, буду делать все, что захочу».
В восемьдесят восьмом для четырнадцати-семнадцатилетних девчонок это был самый настоящий призыв к бунту.
И они бунтовали – верили, что после встречи с сильным парнем «все будет всерьез», и шли с ним из «старого дома» туда, где «прекраснее, чем сон», а на самом деле – за гаражи или в заросли тальника. А потом, брошенные, кидались на соперниц, резали вены, бросались с балконов, топились в Енисее…
Конечно, подобное было всегда. Но только тогда, в восьмидесятые, это происходило под нежную музыку с жуткими по сути своей словами: «Люди проснутся завтра, а нас уже нет».
И парни… Парни бились за признанную красавицу квартала так, будто других девушек вокруг не существовало. Других, тоже симпатичных, милых, юных, не замечали, а ради одной схлестывались насмерть. И «леди Ровена» квартального масштаба к двадцати годам могла похоронить пяток погибших ради нее парней-рыцарей.
Впрочем, оно того, наверное, стоило: самые красивые девушки – в Кызыле. И самые бесстрашные парни тоже там. Девушки еще остались, а парни – были. Парни переубивали друг друга в восьмидесятые, а оставшиеся полегли в девяностых, когда тувинская молодежь из районов завоевывала город, когда полыхала бандитская война…
Чаще всего удавалось попадать на дискотеки в первую школу. Не в ту, какой она стала чуть позже, переехав в свежий, из красного кирпича, построенный по московскому проекту комплекс на улице Красноармейской, а в старую – двухэтажный покосившийся дом на углу Чульдум и Щетинкина-Кравченко.
В эту завалюху мало кто хотел ходить – бугры уж точно, – а субботние дискотеки проводить было надо. Поэтому учителя и дружинники из комсомольского актива смотрели на возраст проходивших сквозь пальцы. Помогало миновать дежурных присутствие в их толпе Боба. Он выглядел слегка старше остальных – на четырнадцатилетнего уж точно не тянул.
Боб шел первым, его пропускали без всяких, а, скажем, Андрея тормозили, начинали выяснять, сколько ему, в каком классе.
«Да мы из одного – восьмой “в”. Пятнадцатая школа. Он малорослик просто, блин. Вечно с ним что-нибудь…»
Чаще всего учителя и дружинники велись на эти слова.
Повесив полушубки и пальто – если дело было зимой – в раздевалке, заходили в туалет и… Нет, не жабали алкоголя, а выдавливали в рот зубной пасты. Растирали ее языком по зубам, нёбу. Потом слегка, чтобы аромат пасты не исчез, споласкивали рот. Надеялись целоваться. Или хотя бы потанцевать медляк с девушкой.
Бывало, у кого-нибудь оказывалась дефицитная жвачка – жовка, и превратившийся в колобок пластик «Мяты» Госагропрома кружил голову, как шампанское, и бросал туда, где звучал на полную мощь плавный нежный музон, мигали разноцветные фонари, пахло духами, молодым потом, парами вина, горячей пылью.
* * *– Кто в «Альтоне»?.. Кто заселяется в «Альтону»?.. Томкин… Топкин… Где господин Топкин?!
Топкин вздрогнул, вскочил:
– Я здесь!
– Ну что же вы? – Девушка Анна досадливо смотрела на него. – Задерживаете остальных. Пойдемте.
Топкин, чувствуя неловкость, но не из-за того, что кого-то задерживает, а что его отчитали – подумаешь, задумался, – выбрался из автобуса.
– Сюда! – указала Анна на стеклянные двери, пряча лицо от дождя.
Только вошли – мягкий голос и улыбка молодого то ли индийца, то ли пакистанца (хотя это вроде одно и то же) за стойкой:
– Бонжу-у!..
– Где ваш ваучер на отель? – Анна просто била копытом от нетерпения.
– Где-то был… – бормотал Топкин, копаясь в пластиковом конверте с выданными в турфирме документами. – Здесь где-то…
– Позвольте, я посмотрю. – Анна забрала конверт. – Я ведь просила приготовить заранее… Мы до утра будем колесить…
Топкин смолчал, но злость на нее все росла. Заплатил кучу денег за пять дней отдыха, а ему выговаривают.
– Вот, есть! – Девушка нашла нужную бумажку, подала индийцу, сказала что-то по-французски. Тот что-то ответил.
– Ну всё. – Мгновенно успокоившись и вновь став приветливой, девушка повернулась к Топкину. – Сейчас он внесет вас в компьютер и выдаст ключ от номера. Хорошо провести время в Париже, – улыбнулась – вряд ли искренне, но все равно приятно – и выбежала на улицу.
Служащий отеля пошелестел клавишами, тоже с улыбкой протянул Топкину ключ с тяжелым, как гиря, брелоком. Что-то сказал.
– А? – забеспокоился Топкин, не находя в его фразе знакомых слов: на брелоке номера комнаты не было.
После некоторых усилий удалось выяснить, что его номер двадцатый, на шестом этаже. Нужно подняться на лифте, а потом еще по лестнице.
– Мерси…
Жилище ему понравилось. Он знал, что гостиницы для туристов его ранга здесь не отличаются особыми удобствами и простором, но его номер был наверняка не худшим вариантом. Может, потому, что находился под самой крышей.
– Мансарда, – вспомнил Топкин название.
Широкая кровать, телевизор-плазма под потолком, холодильник, длинный и узкий то ли стол, то ли полка вдоль стены с окном. Из окна – вид на улицу, а не в глухой двор с кирпичной стеной, чем Топкина пугали дома бывавшие в Париже.
Но не это по-настоящему обрадовало и удивило его, а то, что в туалете, в наклонном потолке, было окошко с открывающейся вверх рамой. Точь-в-точь как в фильме «На грани безумия».
Достал остатки виски, шоколада. Сел на кровать, глотнул, похрустел ломтиком «Таблерона»…
Где смотрел его в первый раз? Говорят, теперь у фильма другое название, а это – «На грани безумия» – было дано советскими переводчиками…
Мощный фильм. Как какой-то немолодой американский ученый со своей такой же женой прилетает в Париж, и там жену сразу похищают. Муж-ученый, дряблый ботаник, начинает ее искать, превращаясь почти в супермена. Ему помогает француженка с потрясающими ногами. Топкин недавно увидел в интернете фотки ее нынешней – стареющая одутловатая тетка. А тогда, лет двадцать пять назад… Сколько спермы он выбрызгал из себя, представляя ее рядом… Как она танцевала там, на экране! Как обмякла, раненая! Как хотелось ее унести, спасти, сделать своей…
И вот эта француженка жила в подобной квартирёнке – комната и туалет с окном в потолке.
Топкину хотелось думать, что впервые он посмотрел «На грани безумия» в одном из видеосалонов. Их тогда, под конец восьмидесятых, пооткрывалось в городе уйма. Поначалу почти нелегальных, в каких-то подсобках, подвалах. Адреса узнавали через знакомых, договаривались о посещении несколько дней. И вот наконец, отдав рубль, садишься перед телевизором и смотришь вместе с еще десятком людей необыкновенный фильм. «Терминатор», «Кобра», «Кошмар на улице Вязов», «Зомби в универмаге», «Рэмбо»… Гипнотизировало не столько происходящее на мутноватом выпуклом экране «Садко» или «Радуги», сколько монотонный голос переводчика, от которого бегали меж лопаток ледяные мурашки, рябь плохой пленки, сама атмосфера опасности, ожидание того, что сейчас ворвутся менты и начнут проверять, сколько кому лет, допрашивать…
Особенно часто пацаны смотрели фильмы с Брюсом Ли – «про Брюса», как говорили в то время. Главным был, конечно, «Путь дракона» и сцена драки Брюса и Чака Норриса.
Все замирали, боялись даже дышать. Из слабого динамика плыла тревожная медленная музыка, слышалось, как хрустят суставы Норриса и Брюса Ли во время разминки. Брюс жилистый, гуттаперчевый, а Норрис мясистый, в рыжеватой шерсти. И вот, размявшись, сходятся. В глазах нет злости, наоборот, уважение друг к другу, но и уверенность: кто-то из них двоих должен сейчас погибнуть… Из развалин за ними наблюдает беспомощный котенок. Котенок мяукает, и Брюс бросается вперед…
«Слушай, повтори еще раз!» – просили парня, заправляющего видаком. Нужно было запомнить каждый удар, каждый прыжок, каждое движение. Понять, как Брюс убил Чака. (Ломание шейных позвонков в то время еще не было популярным способом убийства в кино.)
«Приходите завтра – позырите», – беспощадно отвечал парень.
«Да блин, нам один кусок».
«Нельзя. Меня выпрут за это. В кино же не говорите, чтоб перемотали».
«Завтра тогда мне место оставь, ладно? Постараюсь прийти».
И в следующий вечер, если появляется рубль, снова бежишь в подвал и смотришь…
Очень быстро салоны сделались официальными; на дверях вывешивали расписание.
Сеансы обычно начинались часа в два дня. Сначала показывали мультики типа «Тома и Джерри», потом два-три боевика, ужастика или комедии, а почти ночью – «порнуху». Ограничение «до шестнадцати» действовало и здесь, но иногда удавалось проникать на такие фильмы четырнадцатилетним, пятнадцатилетним… «Горячую жевательную резинку», «Греческую смоковницу» и даже «Эммануэль» он, Андрюша Топкин, посмотрел еще тогда, в период видеосалонов.
Изредка показывали музыкалку – концерты Мадонны, «Кисс», «Металлики». Это было иногда круче боевиков.
Да, денег тратилось на видеосалоны немало. Экономили на школьных обедах, на газировке, копили по десятику, пятнадцатику…
В восемьдесят девятом в центральном кинотеатре «Найырал» (в переводе с тувинского – «Дружба») появился второй зал. Маленький, мест на тридцать, и там стали показывать видеофильмы, но уже не в телевизоре, а на экранчике, часто с многоголосой озвучкой. И очарование пропало. Фильмы и фильмы. Конечно, с крутыми драками, спецэффектами, но так, чтобы дух перехватывало, чтобы потом не мог уснуть от страха или перевозбуждения… Нет, такого уже не случалось.
Но, может, просто Андрей стал взрослее? В семнадцать твоих лет Фредди Крюгер уже не тот, что был в твои четырнадцать… Позже, когда у него появился свой видак, Андрей брал в прокате те фильмы, которые любил в юности, и многие не мог досмотреть до конца. Убожество, примитив, стыд просто и за режиссера, и за актеров, и за себя, что балдел от этого.
Видаки продавались в магазине музыкальных инструментов и разной электротехники «Аялга» («Мелодия») с середины восьмидесятых. Это была отечественная «Электроника». Серый жестяной ящичек, символизирующий дверь в иной мир. У группы «Мираж» даже песня была про видео: «Стоит нажать – и меня с вами нет».
Правда, цена этого ящичка была такой, что почти никто в городе даже не планировал его купить, – больше тысячи рублей. За такие деньги можно было обзавестись стареньким «Москвичом» или вполне сносным «Запорожцем».
Были видеомагнитофоны и в комиссионках. Там стояли импортные – тонкие, черные. Они стоили вообще запредельно…
Комиссионные магазины – а их в Кызыле было два: один в здании той же «Аялги», а другой в глубине базара, в маленькой избушке, – посещали, как музей. Заходишь в избушку, и тебе в глаза тут же кидаются двухкассетные «Шарпы», джинсы «Монтана», «Леви Страусс», «Ли Купер», кассеты «Сони», дубленки, соболиные шапки, хрусталь, ковры…
У Топкиных был дома простенький хрустальный сервиз – графин, шесть рюмок и шесть бокалов, плешивый ковер на стене, цветной телевизор «Радуга», проигрыватель «Россия», магнитола «Рекорд-301». Папа когда-то, когда был молодым, записывал на бобины разные песни – от Магомаева до «Дип Пёрпл». Но Андрея бобинник не устраивал, да и какой смысл в этом, стоящем в зале, где вечно по вечерам кто-нибудь есть, сундуке. Он мечтал о своем, личном магнитофоне. Кассетнике. Пусть будет простенький вроде «Легенды».
В десятом классе ему наконец-то купили маг – «Томь-303», который очень напоминал один из магнитофонов «Сони» и звучал на первых порах просто отлично. Четкий такой звук – низкие, высокие частоты регулировались до грана.
С покупкой магнитофона появилась проблема фонотеки. Несколько кассет у Андрея было – откуда-то появились, как-то подобрались три-четыре с песнями Яака Йоалы, Анне Веске, Аллы Пугачевой, ансамбля «Боббисокс» и еще две чистые МК-60. Плюс еще одна кассета шла вместе с магнитофоном.
При помощи Белого, у которого была «Весна», записали на все эти кассеты диско-музыку. Соединяли маги шнурами, настраивали частоты… Завидовали тем, у кого двухкассетники: «Там, блин, без всяких напрягов – “запись” нажал, и понеслось».
Диско, правда, уже поднадоело к тому времени, тянуло к другому музону. Искали «Аэросмит», «Квин», «Скорпионс» и, конечно, «Депеш Мод».
На базаре, этом островке экзотических магазинов – охотничьего, филателии, комиссионного, мясного павильона, где даже в годы жуткого продуктового дефицита можно было купить хорошего мяса, были бы деньги, – находилась студия звукозаписи.
На стене – стендик со списком групп и исполнителей. Сейчас уже трудно вспомнить, что было в тех списках, но их чтение будоражило, хотелось услышать это, и это, и это…
Сделать запись в студии считалось хорошим тоном. Ведь она предполагала настоящее качество. И хоть у большинства магнитофоны были простенькими – только бы какой звук воспроизводили, – все-таки стремились к лучшему.
Поработав исправно месяца три, «Томь» стала чахнуть: музыка зазвучала как-то размыто, плавающе, со все возрастающим шипением, и протирание головки и валика одеколоном помогало слабо. Потом порвался пассик, пришлось нести в ремонт. После ремонта «Томь» стала зажёвывать пленку… В общем, не повезло Андрею с первым магнитофоном.
Второй появился летом девяносто первого. Этот хоть и был куплен с рук, но служил безотказно. Настоящий японский «Панасоник». Наверное, он и сейчас работает – Андрей его давно не включал; коробка с кассетами – огромная, из-под телевизора – в углу комнаты, забросанная разными тряпками. Может, уже и пленка осыпалась.
* * *Лежал на кровати и уговаривал себя подняться, сполоснуть лицо и отправиться на улицу. Прогуляться по близлежащим улицам, найти, может, открытый магазин. Воду надо купить, поесть чего-нибудь да и выпивкой запастись. Уговаривал, а сам постепенно всё глубже погружался в дрему, наполненную прошлым: воспоминаниями о давнем и вроде бы сейчас, здесь, в парижском отеле «Альтона», совершенно ненужном…
Вообще, аскетичность жизни советских подростков, о которой Топкин нынче очень часто слышал по телику да и от теперешней молодежи, – миф. Запросы пятнадцатилетнего ребенка конца восьмидесятых родителям удовлетворять было наверняка не только сложнее, но и много дороже, чем такого же ребенка десятых годов двадцать первого века.
Почти каждый пацан и некоторые девчонки проходили через моду собирания марок. Конечно, отпаривали марки с конвертов, выменивали у сверстников на какую-нибудь ерунду, как считал в тот момент поглощенный собиранием, но в основном покупали в магазине «Филателия», пестревшем разнообразнейшими наборами из Венгрии, Либерии, Монголии, Кубы, Кореи…
Продавщица была, кажется, все время одна, без сменщицы, – русская женщина с тувинской фамилией Барбак-оол. Ее за глаза называли Барбакол. Продавщицу просили оставлять новые наборы – кто живописи, кто животных, кто спорта. Копили деньги, выклянчивали у родителей на понравившиеся.
У Андрея сохранились два альбома, забитых марками. Не так давно он заинтересовался, сколько какие стоят на филателистическом рынке. Долго копался на форумах в интернете. Оказалось, что его коллекция на девяносто девять процентов состоит из ничего не стоящих цветных бумажек. Да и те немногие марки, какими он по-настоящему дорожил, например двумя из довоенного набора «Перекоп», не превышают сорока рублей за штуку.
А ведь сколько потрачено на эту коллекцию тех советских, дорогих рублей!
Набор стоил редко меньше рубля. В основном же полтора-два. Полтора рубля умножаем на сто наборов. Сто пятьдесят рублей. Немалые деньги в то время. К тому же на марки менялись модели автомобилей, индейцы или пираты, сделанные зэками ручки из разноцветных пластиковых кружочков, ножички-складешки… Все это в свое время покупалось или выменивалось на что-нибудь другое, но затем потеряло свою ценность по сравнению с марками.
Кто теперь из подростков собирает марки? Может, один из ста. А тогда один-два из ста не собирали и казались чудаками, не понимающими смысла жизни…
А эти модельки автомобилей! Теперь они во всех детских магазинах, киосках. Стоят не копейки, конечно, но и не столько, как году, скажем, в восемьдесят восьмом. Их коллекционировали далеко не все, но почти каждый пацан имел одну или две модельки. Это было своего рода делом чести.
Индейцы, пираты, ковбои… Не путать с солдатиками, что торчали в витринах «Детского мира»! Нет, индейцы, пираты, ковбои являлись произведением искусства.
Индейцы и ковбои были из твердой резины, раскрашенные. Пираты чаще всего – пластмассовые, одноцветно-коричневые, но с массой деталей: складки на треуголке, пистолет за витым поясом, сабля с узорчатой рукоятью, пряжки на башмаках. В магазинах эти фигурки не продавались, но откуда-то поступали в их глухой, далекий от большого мира Кызыл.
Да нет, понятно откуда. В основном из ГДР, Чехословакии, Польши. В начале восьмидесятых в дом, где жили Топкины, въехала офицерская семья – главу семьи перевели из ГДР в их мотострелковую часть. Так паренек, сын офицера, привез целую армию индейцев и ковбоев. Ковбоев возглавляли несколько американских солдат в синей форме, таких, как в фильме про Чингачгука. А у индейцев был вождь – сидящий у костра старик с богатым украшением из перьев.
Некоторое время Андрей дружил с этим пареньком, и они устраивали войны индейцев с ковбоями. Индейцы скрывались в горах, сделанных из одеял и подушек, а ковбои за ними гонялись, попадали в засады… Очень скоро его отца бросили куда-то в другое место, и имени обладателя сокровищ Андрей не запомнил.
В советских солдатиков играли редко. Во-первых, они, грубо наштампованные, были неинтересны, постоянно падали, а во-вторых, им просто не с кем было воевать – врагов почти не делали у нас.
Зато многие сами лепили солдатиков из пластилина. Тогда был тяжелый, затвердевающий, почти как глина, долго сохраняющий яркий, но не водянистый цвет пластилин.
Тут уж пацаны были хозяевами своих желаний: тщательно изучали форму красноармейцев, белогвардейцев, фашистов, американских морпехов, наших десантников, французских солдат времен Первой мировой и пытались копировать. Потом сражались. Можно было отрывать солдатикам ноги и руки, прокалывать штыком из заостренной спички или штык-ножом, которым служил зубец расчески.
Пластилин, конечно, нельзя отнести к большим тратам, удару по семейному бюджету. Но лепка солдатиков требовала не одной и не двух-трех пачек. Не пяти… Одно время у Андрея под кроватью в плоских коробках, накрытых от пыли газетами, стояли больше ста бойцов. Плюс несколько лошадей, десяток пушек, станковые пулеметы, при помощи пластилина превращенная в броневик гоночная машинка… В общем, материала для армий требовалось немало. А материал добывался за деньги в отделе «Канцтовары» магазина «Детский мир».
Но в основном увлечения и развлечения требовали немалых финансовых затрат.
К примеру, склейка моделей кораблей и самолетов. Стоили эти конструкторы недешево, и родители предпочитали покупать хоть и подороже, зато сложнее, со множеством деталей, надеясь, что сын как можно дольше провозится с каким-нибудь крейсером или линкором.
А аквариумы! Кому пришло в голову, что, если у тебя нет аквариума, ты чуть ли не чмо? И уговаривали родителей купить в магазине или с рук – у тех, кому надоело, – аквариум. К нему, конечно, рыбок. Сначала гуппи, меченосцев, потом данюшек, барбусов, скалярий, неонов, сомиков. К аквариуму требовались фильтр, компрессор, лампа, водоросли, кормушки, улитки… Рыбкам требовался корм.
У Андрея был аквариум. Но не очень долго. Однажды он с ребятами пошел на болото за отличным, как ему рассказали, и халявным кормом – мотылем. Намыли с помощью сачка этих красных червячков, поделили, разошлись. Андрей раз-другой покормил им рыбок, а потом забыл. И как-то, проснувшись утром, Топкины увидели в квартире сотни вялых новорожденных комаров.
После этого мама стала относиться к аквариуму как к врагу, да и Андрей от него уже порядком устал. Тем более что рыбки часто умирали, вода зеленела, и ее нужно было то и дело менять. Папа и сестра были к рыбкам совершенно равнодушны. В итоге продали за какую-то мелочь и аквариум, и рыбок, и всё остальное парнишке года на два младше Андрея – тот рассчитывал при помощи аквариума обрести уважение одноклассников…
Не иметь велик – сначала «Бабочку» с двумя добавочными колесиками для удержания равновесия, затем «Школьник», а потом «взрослик» – тоже было для пацана позором, признаком неполноценности. Если родители не могли его приобрести, пацан пытался скопить денежек и купить у кого-нибудь из старшаков или мечтал собрать сам. Обходил мусорки, копался в чермете в надежде отыскать сломанную раму, чтоб потом ее сварили мужики-ремонтники, руль, педали, колесо-восьмерку, которое можно выправить…
Лет с четырнадцати начинали мечтать о мотоциклах. Или хотя бы мопедах. В разговорах постоянно звучало: «Рига», «Карпаты», «Ява», ижак, «ЧеЗэт». А особенно часто – «Верховина».
«Верховина» была так популярна не потому, что считалась самой крутью, – просто «Верховину» родители реально могли купить.
От безысходности некоторые мастерили мотовелики. На «взрослик» устанавливали моторчик, бачок, усиливали заднее колесо. И – вперед, треща и дымя…
На мопеде и мотовелике далеко не уедешь – гоняли вокруг гаражей, по пустынным улочкам внутри квартала. Но те, у кого появлялся ИЖ, или «Днепр», или «Урал», отправлялись в дальний загород. Из них многие стали «плановиками» – добывали в степях анашу, пластилин, план, шишки, пыль, гаш…
У Андрея мопеда и мотоцикла никогда не было. Сначала хотел, но родители в то время ожидали, что папу вот-вот переведут на новое место службы – и что тогда делать с этой двухколесной тяжестью, – а потом Боб, у которого имелись «Карпаты», столкнулся на дачном перекрестке с машиной и месяца два прыгал с аппаратом Илизарова. Мода на мотики в их компании после этого заметно пригасла.
Старшаки бились серьезней. Некоторое время количество погибших в авариях конкурировало с количеством убитых в разнообразных драках. Особенно обсуждаемой стала авария, в которой разбился один из двух братьев Фёдоровых, считавшихся одними из самых главных бугров района, – Фёдор-младший. (Старший Фёдор вскоре сел за попытку отобрать пистолет у милиционера.)
Фёдор-младший шел через дворы со своей очередной телочкой и увидел возящегося с ижаком знакомого паренька. Фёдор попросил – точнее, потребовал – прокатиться. Наверняка бы действительно прокатился и отдал. Паренек вынужден был согласиться. Фёдор посадил подружку, рванул. И буквально через пять минут на бешеной скорости влепился в лоб УАЗу. Девушка перелетела через Фёдора и машину и шлепнулась на газон. Что-то себе повредила, но несерьезно. А Фёдора просто размазало об УАЗ.
О нем пацаны не горевали – одной угрозой меньше. Телочка вскоре оклемалась и стала ходить с другим бугром. А вот пареньку сочувствовали. Попал он конкретно: мало того что мотоцикл превратился в груду железа, так еще стали крутить с одной стороны менты, с другой – дружки Фёдора. Зачем типа дал, когда видел, что человек обкуренный в хлам? Почему вообще мотоциклом владеешь, когда тебе пятнадцать лет?.. Документы на транспортное средство где?.. А он и не катался почти на своем ижаке – так, иногда по двору. Ждал, когда ему исполнится шестнадцать, получит права… И вот за пять минут все рухнуло.
А нынче уже и не встретишь пацанов на «Карпатах» и «Верховинах»; мотоциклов тоже мало. Редко-редко кто-нибудь прожужжит на скутере…
Много денег тратилось на игровые автоматы. Не на те, что появились в девяностые, когда играли, чтоб разбогатеть, а по сути бесполезные – «Морской бой», «Снайпер», «Авторалли», «Воздушный бой»… Эти автоматы были в их городе в одном месте – на автовокзале, и там вечно толпились дети и младшие подростки. Несколько минут удовольствия стоили пятнадцать копеек. Вроде немного, но кому хватало одного сеансика? Появились настоящие игроманы; они воровали рубли у родителей, шарили по карманам в школьных раздевалках.