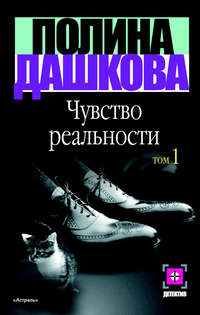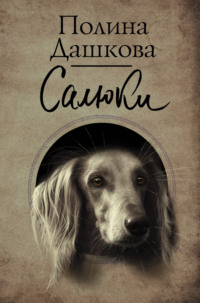Полная версия
– Я – нет. Но другие…
– Вот другим ты можешь рассказывать сказки. А себе не надо.
Карл и Рикки говорили очень тихо. Никому, кроме них двоих, этот сложный разговор уже не был интересен.
– За Адольфа! Адольф был гений! – завопил пьяный Отто Штраус. – Он сумел создать образ врага. Ты сам говорил, Карл, что обязательно нужен враг.
– Да, Адольф был гений, – спокойно кивнул Карл и, громко чокнувшись своей кружкой с остальными, опять заговорил только с Рикки, быстрым полушепотом: – Адольфу не хватало здорового цинизма. Он не мог самому себе просто и честно сказать: все дерьмо, и главное в этом дебильном мире – стать победителем. Без всяких там мистических теорий, заклинаний, без курятников для лучших представителей нации. Мифы хороши для толпы. Но это только часть победы. Адольф умел накачивать толпу, его речи были как мощный наркотик. Но он сам стал наркоманом идеи. Вместо того чтобы хорошо подготовиться к следующей зиме, он приказал водрузить на Эльбрусе знамя со свастикой, освященное по ритуалу «Черного ордена». Трое лучших альпинистов СС вскарабкались на кавказскую вершину. Адольф считал, что с грядущими русскими морозами сумел таким образом договориться. И что случилось потом, следующей зимой? Сталинград! Жуткий, позорный разгром.
– Карл, но ты всегда говорил, что Гитлер был прав. – Красный, потный Вилли, самый юный из всей компании, уловил несколько фраз из разговора. – Ты говорил, что Гитлер был прав, а сейчас, в такой день, вспоминаешь всякую фигню. Объясни мне, Карл. Я не понимаю.
– Конечно, он был прав, Вилли. Во многом, но не во всем. Нельзя закрывать глаза на ошибки великого человека. Это унижает его память. Нельзя бояться правды. Главная его ошибка заключалась даже не в мистике. Собственная правота ему казалась важнее объективной реальности, важнее победы. А без победы нет правоты. Он и из сталинградского разгрома не извлек никаких уроков. Знаете, чем он занялся весной сорок второго? Послал научную экспедицию на остров Рюген со всякими дорогими радарными установками. А потом было объявлено: фюрер имеет основания считать, что так называемая земная поверхность, на которой мы живем, на самом деле не выпукла, а вогнута. И мы живем внутри, как мухи в колбе. Надо было воевать, а он занимался глупостями. Он тратил огромные деньги, чтобы доказать теорию полой земли. А надо было тратить деньги на войну с Россией и на создание атомной бомбы.
– Ну и чего, разве не воевали? – вяло возразил огромный, красный, как окорок, Отто Штраус. – Не-е, Карл, Гитлер был гений, я люблю фюрера. Германия для немцев. Разве не правильно? Весь мир для немцев. Мы – великая нация. Вот это я понимаю. А всякие там теории – фигня.
– Молодец, Отто, ты все правильно понимаешь, – усмехнулся Карл, – выпьем еще за нашего дорогого Адольфа. Он и правда был гений.
Компания за столом грохнула пивными кружками.
– Карл, мне не нравится этот ублюдок, – процедил сквозь зубы Отто, чокаясь кружкой и показывая глазами в дальний угол пивного зала, где у лакированного бочонка сидел за маленьким отдельным столом неприметный человек лет сорока в темно-синей джинсовой куртке.
– Брось, Отто, – поморщился Карл, – не напрягайся. Сегодня праздник.
– Он слушает. Он легавый. – Отто слегка дернул головой. – Он только делает вид, что читает газету.
– Ну и что? – Карл приобнял Ингу, погладил ее худенькое плечо. – Что нам легавые? Мы отдыхаем. Правда, Инга?
– Карл, он здесь уже в третий раз, – тихо произнесла Инга, – мне он тоже не нравится.
– Давай я с ним поговорю, – предложил Отто. – Ну чего он здесь ошивается? Непорядок это, Карл. Во всем должен быть порядок.
– А если и правда легавый? – прошептала Инга. – Может, лучше не трогать его? Просто ты говори чуть потише, Карл. Вдруг он записывает тебя на магнитофон? А потом сообщит в университет. У тебя могут быть неприятности.
– Неприятности, говоришь? – засмеялся Карл. – А вот мы сейчас поглядим, у кого будут неприятности. И чтобы больше я от тебя, Инга, не слышал этой ерунды. Отто прав, во всем должен быть порядок. Побеседуй с этим старым пердуном, Отто. Только вежливо.
Отто тяжело перелез через дубовую лавку и расхлябанной, неспешной походкой направился к угловому столику. Вся компания оживилась. Все с интересом глядели в угол. Там и правда происходило нечто интересное.
Сначала между незнакомцем и поддатым Штраусом завязалась тихая непринужденная беседа. Слов слышно не было, но незнакомец улыбался. А Отто наливался густой бурой краской.
– Сейчас он ему даст, – сладко зажмурился малыш Рикки, – а то приперся сюда, старый хрен, будто его приглашали.
Отто быстро вскинул пудовую ножищу, выбивая табурет из-под мужчины. Что-то грохнуло, тонко взвизгнуло, и малыш Рикки начал было весело аплодировать, но через секунду его ладони замерли. Грохнул на пол и взвизгнул от боли вовсе не сорокалетний, хилый на вид незнакомец, а здоровяк Отто.
На глазах у всех непобедимый Отто Штраус корчился на полу, в свежей пивной луже, и пиво из опрокинутой кружки капало на его красный подбритый затылок. А незнакомец спокойно поднял табуретку, уселся на место, не спеша закурил.
Повисла тишина. Все, кто был в кабачке, молча, выжидательно смотрели на Карла Майнхоффа. Только толстая старуха судомойка, сердито ворча себе под нос, прошла в угол с тряпкой вытирать пивную лужу.
– Давай вставай, – она потрясла Отто за плечо, – напился, здоровый боров. Что ты здесь разлегся? Мешаешь. Не видишь, вытираю пол? Сейчас хозяин позвонит в полицию.
Отто, пыхтя, отдуваясь, поднялся на ноги, с ревом кинулся на незнакомца, но тут же опять свалился. На этот раз, вероятно, надолго. А незнакомец сел, развернул газету, бросил в рот маленький соленый кренделек.
Карл перепрыгнул через лавку. Вслед за ним к столику направились Вилли и Клаус. Хозяин погребка взялся за телефон, но тут в грозовой тишине послышался мирный голос незнакомца:
– Не надо, Штефан. Мы разберемся без полиции.
Первым скорчился Клаус. Он получил быстрый удар ниже пояса, упасть не упал, но согнулся вдвое. Вилли свалился, опрокинув здоровенную дубовую лавку. Карл не успел опомниться, а незнакомец уже сгреб его за грудки, притянул к себе вплотную и тихо, ласково спросил:
– Ну что, Карл, вмазать тебе на глазах у твоей кодлы или поговорим?
Ткань тонкой фланелевой ковбойки, накрученная на кулак, затрещала. У незнакомца были светло-серые, без блеска, глаза, аккуратные усы, как у Карла, только темнее, седоватые короткие волосы, глубокие залысины над покатым лбом.
– Что молчишь? Авторитет – вещь хрупкая. Вон как твоя кодла внимательно на тебя смотрит, ждет. Ну, поговорим? В последний раз спрашиваю.
Карл открыл было рот, чтобы ответить, мол, да, конечно, почему бы и не поговорить, ежели вам так хочется, но в этот момент незнакомец почему-то вдруг ослабил хватку, резко развернулся, послышался грохот и отчаянный тоненький визг.
Инга извивалась и вопила, пытаясь вырваться, вцепиться зубами, ногтями, но незнакомец держал ее мертвой хваткой. Секунду назад он успел перехватить ее руку. Тяжелая пивная кружка, которой Инга намеревалась огреть его сзади по голове, валялась на полу.
– Я не люблю делать больно таким юным, таким милым фрейлейн, – вздохнул незнакомец, – честное слово, ужасно не люблю. Успокой свою красавицу, Карл, скажи, чтобы она не нервничала.
– Инга, успокойся. Все в порядке. Этот человек просто хочет поговорить со мной.
Все это продолжалось не больше трех минут. Отто и Вилли даже не успели встать на ноги, Клаус еще не опомнился от дикой боли в паху.
– Ладно, ребята, продолжайте веселиться. – Незнакомец отпустил Ингу, уселся за свой столик и кивнул хозяину: – Принеси-ка нам кофейку, Штефан. А ты присаживайся, Карл. Будем знакомы. Меня зовут Бруно.
Он улыбнулся, протянул руку. Карл ответил на рукопожатие и спокойно уселся напротив. Инга, холодно сверкнув глазами, ушла в другой конец зала. Остальные, поднявшись наконец на ноги, понуро побрели за ней.
– Я давно присматриваюсь к тебе, Карл, – тихо и задумчиво произнес Бруно, когда они остались вдвоем, – ты хороший парень, умный, крепкий. Мне нравится все, что ты говоришь. Ну, почти все. Но дело даже не в том, что ты говоришь, а в том – как. Тебя слушают, тебе верят. Это главное. Нам нужны такие ребята, как ты.
– Кому это вам? – мрачно поинтересовался Карл.
– Немцам. Сильным, честным немцам, патриотам Германии, – улыбнулся Бруно, – представь, такие еще остались.
– Где это, интересно?
– А ты подумай. Ты же умный, вот и подумай.
– Вы из полиции?
– Почти угадал.
Хозяин принес две чашки кофе и тут же удалился.
– Штази?1 – еле слышно спросил Карл.
– Молодец, – кивнул Бруно, – я не сомневаюсь, мы не просто договоримся с тобой, Карл. Мы подружимся.
– А конкретней можно? – Карл сидел насупившись и старался не смотреть Бруно в глаза. – Если вы хотите, чтобы я…
– Нет, – Бруно весело рассмеялся, – тебя никто не собирается вербовать в стукачи. Это не твое призвание. Мы практикуем индивидуальный подход к людям, особенно к молодежи. Сотрудничество у нас будет долгим и серьезным. Твой дедушка Фриц когда-то служил в абвере, но в конце войны стал работать на русских. На самом деле он был не двойным, а тройным агентом. Внутри абвера существовала тайная структура, связанная с теми силами в СС, которые еще в сорок втором поняли, что интересы фюрера и интересы великой немецкой нации необязательно совпадают. Вожди приходят и уходят, нация остается. У нас будет еще много времени и много разговоров, но важно, чтобы ты понял главное. Ты станешь продолжать то, что делал твой дедушка Фриц. Я даже не спрашиваю, согласен ли ты. Вижу по глазам, что согласен.
Глава 9
Пустыня Негев (Израиль), январь 1998 года
Натан Ефимович Бренер чувствовал себя настолько скверно, что даже глаза не хотел открывать. Он не ожидал увидеть ничего хорошего. Во рту пересохло, ломило все мышцы и кости. Он понял, что лежит в неестественной, неудобной позе на чем-то жестком.
Пахло свалявшимся войлоком, горячей пылью и верблюжьей мочой. Где-то совсем близко блеяли овцы. Бренер облизал пересохшие губы и очень медленно открыл глаза. Взгляд его уперся в брезентовый рваный потолок. Сквозь мелкие прорехи в ткани сочился ярко-розовый свет. Похоже, закат. Солнце садится около четырех. Значит, прошло не меньше суток? И все это время он был без сознания?
Бренер попытался повернуть голову. Каждое движение причиняло ноющую боль. Он сумел разглядеть стены, если можно назвать стенами куски фанеры, кое-как скрепленные проволокой. На полу были навалены полосатые грязные циновки.
«Бедуины, – подумал Бренер, – как же я попал к ним?»
Превозмогая боль, он попробовал сесть и обнаружил, что руки у него связаны. Вот почему так ноет тело. Он вспомнил убитого охранника и существо с рифленым хоботом, которое принял за инопланетянина.
– Попить бы кто принес, – громко проговорил профессор по-русски, не надеясь, что кто-нибудь его услышит и поймет.
Но услышали и поняли. Через минуту в палатку, пригнувшись, вошла женщина в длинной бедуинской одежде. Лицо ее было почти полностью закрыто черным платком. В руке она держала бутылку минеральной воды, на которую сверху был надет пластиковый стакан.
– Как вы себя чувствуете, профессор? – спросила она по-английски с сильным немецким акцентом.
– Прекрасно, – усмехнулся Бренер, – развяжите мне руки, иначе их скоро придется ампутировать.
– Очень сожалею, – ответила женщина, – но я не имею права вас развязывать.
Она поднесла к его губам полный пластиковый стакан. Бренер жадно, залпом выпил всю воду, судорожно сглотнул и попросил еще. Женщина опять наполнила стакан. Он заметил, что глаза у нее светло-голубые, руки белые, ухоженные, с аккуратным маникюром.
– Что за маскарад, фрейлейн, и почему вы не имеете права меня развязать, мать вашу?
Вопрос он задал по-немецки, но последние слова произнес по-русски, добавив еще пару смачных матерных выражений.
– Вы хотите что-нибудь поесть? – спокойно осведомилась она, тоже переходя на немецкий.
– Черной икры, французских трюфелей, запеченных в сливках, в горшочке, а также авокадо с креветками. И не забудьте персиковое мороженое на десерт. Но перед этим я бы хотел принять душ. И еще – мне надо в туалет.
Женщина молча кивнула, помогла ему подняться, придерживая за локоть, вывела из палатки. Вокруг была пустыня Негев. Даже ярко-розовые лучи заходящего солнца не красили мертвый ландшафт. Серый, с бурым отливом песок, спрессованный в бесформенные глыбы. Несколько бедуинских палаток. Безобразные помоечные шалаши, наспех собранные из фанерных ящиков, обтянутых драным брезентом. Пара верблюдов с ковровыми седлами, десяток овец вдалеке, на холме. Полная, низенькая женщина в черной хламиде, с закрытым лицом, развешивала какое-то тряпье на веревке, натянутой между косыми столбами. У одной из палаток пятеро мужчин в бедуинских одеждах сидели в непринужденных позах, курили и о чем-то негромко, лениво переговаривались по-арабски. Приглядевшись, профессор заметил, что все пятеро вооружены.
Натан Ефимович еле держался на ногах. Голова кружилась, во рту был мерзкий металлический привкус. Он чувствовал тошнотворную, дрожащую слабость во всем теле. Они отошли довольно далеко от лагеря, за невысокий холм.
– Что вы мне кололи? – спросил он.
– Барбамил.
– О Господи… Сколько?
– Вам было сделано четыре инъекции по десять миллиграмм пятипроцентного раствора. Вы проспали сутки. У вас был нормальный пульс. Не волнуйтесь, профессор, у меня среднее медицинское образование. Я держала вас под контролем.
– Ах ты засранка, – пробормотал Бренер по-русски, – сопля голубоглазая! Под контролем она меня держала! Образование у нее! Может, вы все-таки развяжете мне руки? Или сами будете расстегивать мне штаны, а, фрейлейн? – спросил он по-немецки.
Она молча развязала веревку и откуда-то из складок своего бедуинского тряпья извлекла пистолет.
– Фрейлейн, вы идиотка, – тихо сказал профессор, глядя в ясные, молодые, очень красивые и совершенно ледяные глаза. – Ну как я могу убежать? Здесь пустыня.
– Вы не можете убежать, господин Бренер, – кивнула девушка, – хорошо, что вы это понимаете. Но я обязана соблюдать необходимые меры предосторожности.
Она не стала опять связывать ему руки, но продолжала держать под прицелом, пока вела назад к палатке. Когда они вернулись, там находились трое мужчин в таких же бедуинских хламидах, как все в этом лагере. На полу стояли картонные коробки с эмблемами придорожного кафе «Фаст фуд».
– Добро пожаловать, господин Бренер, – произнес один из них на хорошем английском.
У него было загорелое, обветренное лицо, светлые, аккуратные усы, светло-карие глаза. «Немец, – догадался профессор, – как и девка. Вероятно, этот усатый здесь главный. Остальные арабы… Плохо твое дело, Натанчик…»
– Ну и зачем вам старый больной еврей, которого сейчас ищет вся израильская полиция и служба безопасности? Зачем вам, господа бандиты, эта головная боль? – Натан Ефимович вздохнул и уселся на циновку, продолжая массировать затекшие руки. – Вы думаете, кто-то заплатит за меня хороший выкуп?
– Не нервничайте, профессор, расслабьтесь, – улыбнувшись, произнес немец по-русски, – чувствуйте себя как дома. Угощайтесь. – Он придвинул Бренеру одну из картонных коробок.
Там оказался огромный бутерброд с салатом, сыром и майонезом, кокосовое пирожное и банка обезжиренного йогурта.
– Это похоже на завтрак в самолете, когда летишь «Люфтганзой», экономическим классом, – заметил Бренер, принимаясь за еду.
Есть ему действительно хотелось, и голодовку он пока объявлять не собирался. Остальные уже жевали точно такие же бутерброды.
– К сожалению, ничего другого предложить вам не мажем, – сказал немец, – условия, как вы понимаете, походные. Но обещаю, это ненадолго. Как только мы переправим вас к заказчику, вам будут предоставлены совсем другие условия и другое меню. Потерпеть придется не больше трех дней. А вообще, все зависит от вас.
– Вы яснее не могли бы выражаться? – спокойно спросил профессор. – Кто вы такие и что вам от меня надо? Какой, к черту, заказчик? Я что, тонна говядины или партия оружия?
Немец весело рассмеялся:
– Скорее второе. Кто мы такие, вам знать необязательно. Мы выступаем только в роли посредников. Вашими исследованиями заинтересовались очень серьезные и влиятельные люди. Нам поручено переправить вас к ним в целости и сохранности.
– Глупости. – Бренер нервно усмехнулся. – Я один, без лаборатории, ничего не значу. Я ноль без палочки. У меня память дрянная и нервы никуда. А главное, работа у меня творческая. Если меня посадят в бункер и заставят думать под дулом автомата, я буду всего лишь тупым испуганным животным, а не ученым. Идеи, особенно гениальные, в неволе не размножаются. Все мои записи…
– Не волнуйтесь, – перебил немец, – мы прихватили ваш «ноутбук».
– Вы что, и дома у меня успели побывать? – Бренер судорожно сглотнул.
– Ну а как же? Разумеется. А что вы так испугались? Вы живете один, Мария Даниловна умерла три года назад. Кстати, очень жаль. Вы так любили свою жену. С сыном Сергеем, с внуками, Андрюшей и Катенькой, у вас прохладные отношения. Или я ошибаюсь? Впрочем, все равно родная кровь. Вы же не захотите, чтобы, к примеру, в один прекрасный день взорвался дом семнадцать по Каплан-стрит в Тель-Авиве? Ну в самом деле, обидно, если что-то случится с этим милым процветающим семейством. Даже мне будет обидно. Дети замечательные. Эндрю и Кетти. Или вы предпочитаете называть их на русский манер?
– Прекратите. Можете не утруждать себя подробностями, – произнес Бренер спокойно, но очень медленно, почти по слогам. – Я только не понимаю – зачем? Чтобы я работал на кого-то насильно? Таинственный придурок хочет завоевать мир с помощью моих профессорских мозгов? Это же фантастический боевик образца шестидесятых, мать вашу. Вы слишком взрослый человек, чтобы играть в Фантомаса.
– Правильно, – улыбнулся немец, – ученых воруют лишь в боевиках. В реальной жизни воруют информацию. Носителей информации убивают. Зачем и кому вы понадобились, узнаете чуть позже. Не мое дело вам это объяснять.
– Стало быть, вы собираетесь меня тайно вывезти из страны. Или мы уже в Египте?
– Нет. Мы еще в Израиле.
– И куда же, интересно, мы отсюда направимся? В Берлин? В Вену? Или в Ирак, к этому шизофренику Саддамке?
– Профессор, не стоит оскорблять моих друзей, – мягко улыбнулся немец, – хорошо, что только я здесь понимаю по-русски. Нет, вы отправитесь не в Германию, не в Австрию и тем более не в Ирак.
– Куда же? На тот свет что ли? – усмехнулся Натан Ефимович.
– Почти. – Немец выдержал эффектную паузу и, насмешливо глядя Бренеру в глаза, тихо произнес: – В Россию.
* * *В половине одиннадцатого вечера в тихих московских переулках неподалеку от Белорусского вокзала светился лиловым огнем купол огромного торгового центра. Подсвеченный мощными прожекторами, припорошенный чистым сверкающим снегом, он был похож на гигантскую елочную игрушку в окружении жемчужных гирлянд – круглых фонарей автостоянки.
С трудом верилось, что всего пару лет назад на месте этого торгового чуда копошилась грязная барахолка, старейший московский блошиный рынок.
За облезлым бревенчатым забором раскладывала свой товар прямо на асфальте, на газетках, вежливая московская нищета. Бабушки в траченных молью шляпках торговали пуговицами, споротыми с собственной одежды, кусочками рваных кружев, мотками бельевой резинки, треснутой посудой. Дядьки с синими носами продавали ржавые гвозди, гайки, лампочки, свинченные в собственных подъездах.
Когда-то место это считалось одним из самых воровских в столице. Во время и после войны здесь устраивались колоссальные облавы, власть беспощадно громила темную барахолку, но торжище возрождалось из пепла, дышало здоровым перегаром, бурлило, воняло, воровало. Его таинственные, не поддающиеся внешней логике законы были сильней любого режима.
Здесь торговали краденым и своим последним барахлом. Алкаши и нищие старушки сбывали за копейки исподнее. Но можно было купить пистолет, ручную гранату, офицерскую форму – советскую, немецкую и даже американскую. Попавший сюда имел шанс быть обобранным до нитки, но мог и одеться с ног до головы за полтинник.
К концу семидесятых блошиный рынок умудрился стать модным эстетским местом, чем-то вроде бутика под открытым небом для надменных знатоков.
Молодые снобы бродили в поисках «ретро прикида», драповых и габардиновых пальто образца сороковых, штанов-галифе из довоенной диагонали, блузочек из креп-жоржета, комиссарских потертых кожанок, круглых очочков с зелеными стеклами, изящных ботиночек на кнопках, со скошенными фигурными каблучками. За тот же полтинник можно было одеться с ног до головы, как сорок лет назад, причем в те же самые вещи.
В начале девяностых московские бабушки со своим фильдеперсом и алкаши с гвоздями вынуждены были потесниться под натиском толпы крепких крикливых молодух в болоньевых телогрейках и пушистых мохеровых рейтузах. Вместо старушечьих пуговок и кружев молодухи вываливали на застланный газетами асфальт ломти сырого мяса, горы творога, сырные головы в шелушащемся желтом воске, рядом высились розово-зеленые стопки женских трико, трепались на ветру фланелевые халаты в немыслимых лиловых розах, вздымались белыми флагами ночные рубахи слонопотамских размеров.
Молодух называли «белорусами». Они заполонили не только пространство барахолки и площадь вокруг, но потихоньку просачивались со своими носками-рубахами и мясо-молочными продуктами во все окрестные дворы.
И опять можно было одеться с ног до головы все за тот же полтинник, а наесться до отвала – еще дешевле.
Неизменным оставалось только сердце барахолки. Крытый колхозный рынок, состоящий из двух деревянных павильонов, с вечными орехами, гранатами и мандаринами. Там хозяйничали кавказцы-перекупщики. Они были элитой, белой костью грязного торжища.
Каждое утро вдоль прилавков элитных кавказских павильонов прохаживался невысокий, сутулый человек. Длинный смуглый нос, спортивные трикотажные штаны с лампасами, дешевая кожанка. Завсегдатаи крытого рынка знали его в лицо. Он никогда ничем не торговал. Он прохаживался, фланировал, иногда останавливался поговорить с торговцами. Если кто-то отвечал ему невежливо, то на следующий день исчезал с рынка. Сутулый не терпел грубости. Он был человеком чувствительным, добрым, легкоранимым. И очень любил детей. Если при нем у прилавка останавливался покупатель с маленьким ребенком, сутулый выбирал лучшее яблоко или мандарин и с улыбкой протягивал малышу.
Звали сутулого Азамат Мирзоев. Откуда он взялся, когда поселился в Москве, сколько ему лет, не знали даже его приятели-перекупщики. Имя Азамата редко поминалось в рыночной суете. Милиционеры из местного отделения здоровались с ним за руку. Он был душой рынка, стержнем, вокруг которого вертелось это шальное торжище многие годы.
К середине девяностых площадь внезапно опустела. Окрестные жители сначала вздохнули с облегчением. Стало тихо и чисто. Потом загрустили – по бабушкам с пуговками, по дядькам с гвоздями, по белорусам с мясом и панталонами и даже по кавказцам-перекупщикам с их дорогущими мандаринами. Но вскоре грусть сменилась удивлением.
На площади развернулась колоссальная стройка, и уже через полгода возникло чудо – торговый центр из стекла и вишневого камня, с автостоянкой, выложенной светлыми, отшлифованными до блеска плитами. Внутри был целый мир, играла музыка, прохаживались воспитанные охранники в униформе.
Вокруг стеклянного супермаркета расположились сверкающие кафельные прилавки для кавказцев-перекупщиков. Торговцы надели хрустящие белоснежные халаты, почти не орали зычными голосами, старались говорить тихо и вежливо, научились улыбаться покупателям и укладывать свои гранаты-мандарины в бесплатные пакетики.
На втором и на третьем этажах пестрели маленькие бутики мужской и дамской одежды, мебельные и ювелирные салоны, несколько кафе и ресторанов, филиал известного банка «Галатея», бильярдная, французский косметический салон, американская химчистка.
Теперь здесь можно было одеться с ног до головы за тысячу долларов.
Бабушки с кошелками из окрестных переулков теряли сознание, попадая в оглушительную красоту супермаркета. Возмущение мешалось с восторгом. Поход за солью, подсолнечным маслом и спичками оборачивался для одряхлевших коммунальных золушек чем-то вроде запоздалого бала.
Москвичи помоложе, успевшие побывать за границей, удивленно мигали, шествуя с тележками вдоль прилавков, ибо чувствовали себя не дома, а где-нибудь в Париже или Нью-Йорке.
Автостоянка заполнялась иномарками. Вежливые охранники в униформе помогали дамочкам в норках и соболях подвозить корзины с продуктами прямо к машинам.