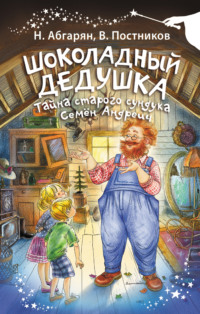Полная версия
Рассказы к Новому году и Рождеству
Та, что «Побольше», вслух говорила в основном по делу. Та, что «Поменьше», в основном трещала, как сухой горох на стиральной доске. Чаще всего шепотом непонятными фразами, по ночам с громким стуком колотя пальцами плоский серый предмет с множеством кнопок, похожий на раскрытую книгу.
– Что, грузовичок лупоглазый, испугался?.. – усмехается «Поменьше» и начинает чесать его двумя руками.
Юзеф ворчит, клокочет, булькает, как старый чайник на огне, плюется, чихает. От возмущения такой фривольностью, конечно, но чаще от удовольствия. Пузо чешется, сходят старые корки.
– Ой, ну ладно, не ворчи, а то зенки потеряешь от возмущения, – хихикает она и снова начинает шептать свои странные слова, со скоростью швейной машины избивая дальше плоский серый предмет. Потом оборачивается, пристально смотрит на него и вздыхает:
– Не зря говорят, что вы, мопсы, уникальные собаки, которые от горя чернеют.
Иногда Юзеф как будто вспоминает, но так неуловимо, что мысль теряется в осколках памяти, растворяется, не успев начаться.
– А вот скажи-ка мне, дружочек, – вдруг нарушает она тишину и стрекот, – ты так реагируешь на девочек почему?.. У тебя была семья и в ней была девочка?.. Ты теперь эту девочку ищешь?.. Не планируешь ли ты, случаем, привязать узелок на палочку и пуститься на поиски?.. За высокие горы, за широкие реки, прихрамывая на все четыре ноги и помахивая крючком хвоста?..
Юзеф вздыхает и демонстративно отворачивается. «Знала бы ты».
«Поменьше» хихикает и вдруг с размаха целует его в круглый лоб:
– А мы вот тебя не отпустим. Возьмем и не отпустим.
Иногда ему кажется, что они обе что-то заговаривают, зашептывают и завязывают в узелки.
«Дни расплетают тряпочку…»
* * *Есть хочется всегда. Каждую минуту.
Лагерную иерархию он выучил очень быстро. Хочешь жить – молчи. Бьют – молчи. Молчи, когда рвут собаки или рвут кого-то другого. Молчи, выполняя самую тяжкую работу. Молчи, переступая через мертвое тело на пороге барака. Молчи, если понос раздирает кишки. Молчи, если болезненный жар снедает кости. Молчи, если крысы грызут пальцы, а насекомые ввинчиваются в поры, заставляя снимать кожу слой за слоем с себя в чесотке.
Поэтому Юзеф перестал разговаривать вообще.
К концу третьего месяца он уже едва мог таскать ноги, но умереть ему не давали три вещи: знание, что за разделительной полосой женские бараки, и там может быть все еще живая Мирка; где-то там, за красными стенами этого места, уже давно похоронили Броньку, и он просто не может сдохнуть, не увидев ее в последний раз. И ярость. Тупая, тянущая, как больные кишки, красная ярость. И еще – его любили и жалели в бараке. В этом огромном темном месте, от пола до потолка набитом нарами, на каждых из которых спали втроем, он был самым младшим. Его жалели, как жалеют случайно найденного младенца.
И еще у него появились друзья. Всего два – молодой, несмотря ни на что веселый Петр, как оказалось, советский лейтенант, и суровый близорукий старик-чахоточник, каждую ночь заходящийся в таком кашле, будто легкие разрывали грудную клетку в попытке вырваться наружу, словно упрямые корни дерева. Тот самый, что сказал ему не бояться.
* * *Петр был смелым. Барачные доходяги никак не могли понять, почему он все еще жив, – на рожон он лез с тупым упорством, как будто проверяя своих палачей на прочность. Всех – и черные «винкели»[12], и «мертвые головы», и овчарок, и даже легендарное чудовище, коменданта Хесса, который любил лично осматривать «цугангов»[13].
Сколько раз его приносили в барак полумертвым, но спустя несколько дней, проведенных в бреду, Петр внезапно открывал глаза и, сплевывая длинную кровавую нитку сквозь остатки когда-то белых зубов, держась за стены, выползал наружу, охая, когда сломанные ребра давали о себе знать. Пять минут стоял, жмурясь, глядел на солнце, а потом хрипел:
– Живы будем, не помрем.
Однажды раздобыл где-то сажи и пальцем нарисовал на своем красном «винкеле» профиль усатого мужика с трубкой в зубах. После того как капо прекратили бить его ногами и Петр затих в липкой кровавой луже, расплескавшейся по брусчатке, его куда-то унесли и он пропал на неделю. Потом его внесли в барак на одеяле, положили на второй ярус, и Юзеф подумал, что ночью, пожалуй, спать нельзя – умрет. Но ночью Петр открыл глаза и запел «Наверх вы, товарищи, все по местам», потом рассмеялся и сказал: «Хрен вам, а не коммуниста, собаки фашистские».
Но страшнее всего было за старика. На самом деле стариком он не был, но приехал в лагерь из варшавского Павяка[14], в котором под пытками старели за несколько дней. Старик был францисканским священником, и священником непростым – настоятелем. В лагерь попал за широкомасштабное сопротивление – на территории монастыря Непорочной Девы[15], основанного стариком, монахи не только прятали большое количество евреев и членов Сопротивления, но и вели радиотрансляции, призывающие людей к борьбе, выпускали огромный тираж газеты, передававшейся подпольем из рук в руки, собирали лекарства, переправляли документы для тех, кому нужно было бежать.
Старика «мертвоголовые» ненавидели люто. Избивали каждый день сапогами и заставляли бегом таскать огромные камни, голыми руками чистить выгребные ямы, топили в ледяной воде, снова избивали и сажали в одиночный стоячий карцер, в котором невозможно даже прислониться к стене и сухожилия лопаются от напряжения.
Но сделать с ним ничего не могли. Старик возвращался в барак и снова занимал свое место у выхода – так он провожал в последний путь молитвой умерших и встречал молитвой каждый новый день.
Однажды Юзеф вернулся и нашел старика за необычной беседой. Поджав ноги хитрым вензелем, рядом со стариком на нижней шконке сидел странный маленький круглолицый человек, вместо глаз у которого были две щелочки. Они говорили на совершенно незнакомом Юзефу, успевшему на слух освоить все лагерные языки, наречии.
Позже старик сказал Петру, что маленький человечек – тоже монах, только из Японии. А старик по Японии скучает – ведь там второй его дом, второй Непоклянув, видевший чудо Божье.
Маленький монах Юзефу понравился – он был так же молчалив и наблюдателен и совершенно, совершенно спокоен. Казалось, что ужас, из которого состоял сам воздух в лагере, черный пепел из труб адской топки, в которой ежедневно исчезали сотни людей, не касался его никак. Как будто вокруг маленького монаха был воздушный пузырь. Его не пугала никакая работа, он не страдал от голода, холода и паразитов, отсутствия воды и страшного запаха. Его били, но он вставал уже через секунду, и на теле его не оставалось синяков.
Наступил душный август 1941 года – один из самых страшных для лагеря месяцев. Юзефа перевели работать в «канаду»[16] – сортировать вещи «ушедших в трубу»[17]. Вечером первого дня его работы барак среди ночи подняли по тревоге – один из заключенных пропал. Всех выгнали на площадь перед бараками. Заместитель коменданта Фришц, холеная сволочь с белыми глазами, шагнул вперед:
– Сейчас, свиньи, я преподнесу вам урок. Десять человек вперед. Сегодня вы умрете. Каждый день, пока не будет пойман беглец, я буду казнить десять человек.
«Мертвоголовые» пошли по рядам, выдергивая людей в середину плаца. Юзеф инстинктивно съежился. Растерянные, дрожащие заключенные, которых вытащили, умоляюще оглядывались через плечо на собратьев. Внезапно один из них заплакал:
– Неужели я больше не увижу жену и детей? Что же теперь с ними будет?
Старик вышел из строя и обратился к Фрищцу:
– Господин оберштурмфюрер. Отпустите этого человека. Позвольте мне занять его место.
Фришц усмехнулся:
– Каков ваш номер?..
Старик поднял запястье над головой, словно осеняя плац крестным знамением:
– Номер 16670.
– Ну что ж, номер 16670. Извольте.
Один из «мертвоголовых» швырнул плачущего обратно в толпу, старик шагнул вперед и встал на его место.
Это был последний раз, когда Юзеф видел его живым.
Через два дня Петр заплакал впервые. Он плакал и повторял: «Они все еще живы. Все еще живы». Несмотря на то что само существование какой бы то ни было религии коммунист Петр отрицал категорически и высмеивал старика с его рыцарским служением Непорочной Деве, втайне он им гордился – стойкостью, верой, следованием долгу, спокойной несокрушимой верой в добро, которое, как росток, найдет почву, чтобы пробиться даже в таком месте.
Старик молился и пел, и вместе с ним молились и пели в смертной камере девять человек, один за другим замолкая. Еще через три дня «мертвоголовым» надоело слышать его слабый голос, и лагерный врач вошел в камеру со шприцом[18].
Юзеф прятался за углом здания, на которое выходило узкое окно камеры, обессиленно прижимаясь лбом к кирпичной стене, и сам не смог понять, в какой момент наступила тишина. В какой момент старик замолчал навсегда. Юзеф точно знал, что, если поймают, забьют насмерть, но ему было все равно.
– Хороший был человек, – раздался за плечом тихий голос.
Юзеф обернулся. Маленький круглолицый монах, сдвинув брови почти так же, как это делал старик, не отрываясь, смотрел на зарешеченное окно.
– Хороший был человек. Хорошо переродится, – только сейчас стало очевидно, что речь маленького монаха польская.
И Юзеф, впервые за долгое время, с трудом подбирая слова, заговорил:
– Переродится?..
– Мы верим в то, что человек не уходит навсегда. Любая душа живет так, как прожила предыдущую жизнь. Жил правильно, делал добро – в цепи перерождений достигнет высшего просветления. Жил плохо – будет перерождаться все ниже и ниже, пока не родится грязью. Он был хороший человек. Он уже достиг. А эти люди – нет. Они не родятся даже грязью. Даже камнем. Потому что даже у камня есть душа.
– А я?.. – неожиданно спросил Юзеф.
– И ты. Ты хороший человек. Если достойно завершишь свой путь, переродишься собакой. Многие не любят собак, считают их недостойными, но мы – нет. Собака обладает чистой, верной душой. Хорошие люди становятся божьими (так вы говорите?..) собаками.
– А ты?.. – так же неожиданно спросил Юзеф.
– Я – другое. Цель моего существования в другом.
* * *Сентябрь[19] был теплым.
– Об одном только жалею, – сказал Петр и устало прикрыл глаза. – Что жениться не успел. И что батю не увижу. Один я у него.
Юзеф не жалел ни о чем. Он вспоминал сухой треск преломленного рождественского оплатека, суровые темно-синие глаза под яркими бровями, белоснежное одеяние ксендза, нежный запах воска и ладана, пронзительно-радостный запах апельсина и рыжее облако кудрей.
* * *Через десять часов двери блока 11 открыли. В помещение хлынул солнечный свет, бескомпромиссный, яркий, торжествующий.
В этом торжествующем свете мертвые, вывернутые мучительной болью голые тела казались огромным полотном. Содранные ногти, искривленные в предсмертной муке рты, остекленевшие глаза, сожженная кожа – всего этого не стало, как будто вместе с солнечным светом в камеру спустился Бог и взял всех своих детей туда, где больше нет ни боли, ни страдания.
Внезапно одно из тел возле открытых дверей зашевелилось.
Маленький круглолицый монах сел и погладил по голове мертвого мальчика.
Потом встал и вышел в солнечный свет.
* * *Под утро рождественской ночи все засыпают.
Спит та, что постарше, и с кем-то говорит во сне. Спит хозяин. Спит старшая собака между ними, раскинув широкие уши и короткие лапки, смешно подергивая пятачком носа. Спит та, что помладше, закинув ноги на стену.
Мерно тикает будильник на старинном пианино, светящийся в темноте прямоугольник экрана ноутбука разговаривает с тишиной. С черно-белой фотографии смотрит печально и пристально монах-францисканец Максимилиан Мария Кольбе, святой покровитель трудного века.
Забываются коротким сном три короля. Сон их тревожен и радостен одновременно. Юноша Бальтазар бежит вслед за звездным светом, подпрыгивая и взлетая, забывая о сане и благопристойности. Полы богатого одеяния взлетают и опадают вместе с холодным ночным воздухом вслед за гибким телом, браслеты на смуглых запястьях вторят движению затейливой мелодией. Зрелый Мельхиор ведет под уздцы белого верблюда, груженного благочестивыми дарами. Борода Мельхиора умащена драгоценными маслами, выглажена и острижена руками знаменитых брадобреев, но за время пути кудри развились, яркое серебро подернулось инеем белой пустынной пыли. Под левым глазом его, если приглядеться в темноте, видна крошечная татуировка – синий якорь. Каспар, покачиваясь на спине норовистого скакуна, безотрывно смотрит на горизонт в ожидании силуэта белого глиняного домика и двух деревьев, склонившихся в темноте ночи над ветхой крышей. Пальцы его поглаживают самую драгоценную корону мира, но он думает о том, что лучший дар лежит за пазухой пурпурных одежд, расшитых алмазными брызгами и золотыми драконами, – простая деревянная игрушка ослика, выточенная из дубового корня. У ослика печальные глаза и длинные уши. Просто у Каспара десять внуков, и он точно знает, что детям не интересны никакие драгоценности. Глаза старика слипаются, и он дремлет, уронив подбородок на грудь, чтобы сон стал двойным, тройным, многослойным, вечным. Пока дремлет старший из трех возрастов человека, будущее не наступит. Караван так и будет идти вперед, ведомый звездой, а младенец так и будет тихо спать в яслях. И ничего из того, о чем старик Каспар знает, не случится.
Спит Бронислава Адамовна, спит апельсиновая девочка, спит ксендз Немировский, спят Петр и его батя, сложивший голову под Ржевом.
Маленькая собака Юзеф спит в своем небесно-голубом гнезде, и снится ему, что он Иосиф.
То ли Прекрасный, то ли Мудрый, то ли Аримафейский.
То ли просто мальчик.
Михаил Шахназаров
Дереникс
Неон медленно скользит по заснеженным холмам открыточных пейзажей. Местечко называют польской Швейцарией. Летом все в зелени. Осенью пригорки укрыты багряно-желтым гобеленом. Именно осенью у меня появляется желание купить здесь небольшой домик. Закурив, медленно отпиваю из никелированной фляжки. Роберту это не нравится. Снова не повезло со жребием. Перед каждой поездкой мы подбрасываем монетку. Вне зависимости от того, на чьей машине отправимся в путь. Угадавший ведет авто до Белостока, или, как говорят поляки, – Блястока. Менее удачливый садится за руль по отъезде в Ригу.
В Белостоке расположены холодильники Януша. Гигантские свиные мавзолеи. Латыши давно распродали всех породистых свиней. Через несколько лет принялись закупать мясо в Германии и Польше. Пересекая границу Латвии, туши глубокой заморозки тут же становились контрабандой в особо крупных размерах.
Фуры выйдут из Польши через пять дней. А через шесть часов наступит Новый год. Я еще раз поднес к губам узкое горлышко фляги. Роберт увеличил скорость. Нервничает… Хороший знак. Роберт становится менее разговорчивым. А для меня настоящее счастье не слышать голос Роберта. Как для него – не слышать мой голос. Он считает меня позором нации. Не знаю язык, игнорирую хаш. И не развожусь, чтобы жениться на армянской девушке. Хотя сам Роберт взял в жены девушку из белорусской деревни. И он не устает повторять, как хорошо она знает свое место в доме. Роберт тоже из деревенских. А говорит, что коренной ереванец. На этих словах буква «р» в его исполнении сильно тарахтит. Сильнее, чем у говорящих попугаев.
С Робертом меня познакомили. Сказали: есть земляк с отлаженным бизнесом. Земляку не хватало оборотных средств и надежного прикрытия. У меня были деньги, два на корню продавшихся мента в чине. А еще – полное отсутствие желания платить налоги. Но то, что наш союз с Робертом не будет долгим, стало ясно при первой встрече. Глубокие погружения мизинца в волосатые ноздри заставили морщиться. А уверения в том, что настоящую любовь я познаю благодаря гродненским проституткам, которыми кишит Белосток (он так и сказал – «кишит»), окончательно убедили меня в нежелании Роберта хотя бы казаться чуточку интеллигентнее. Но мы ударили по рукам и налоговой системе республики.
Когда до польско-литовской границы оставались считаные километры, фары выхватили силуэт автоматчика. Он стоял рядом с небольшим автобусом. Взмах светящегося жезла заставил Роберта билингвально матернуться:
– Кунем ворот! Это еще что за мудозвон?
– Польский Дед Мороз. Гжегож Пшебздецки, тля! Ждет тебя со свинцовыми фляками.
Боковое стекло медленно сползло вниз. Отдав честь, польский воин наклонился. Обшарив глазами салон, выпалил:
– Гасница ест, пан?
– Была, – отвечаю. – В Блястоке. Гасница «Кристалл». Вернее, это… отель «Кристалл».
– Нье, пан. Гасница, гасница! – повысил голос военный.
– Да я-то понял, что гасница. Не видите, пан, домой едем. А гасница осталась в Блястоке. Сзади гасница «Кристалл» осталась, – указал я ладонью за спину.
– Нье, пан! Гас-ни-ца, – произнес поляк по слогам.
– Do you speak English?
Выучить английский натовец не успел.
– А по-моему, он огнетушитель просит. Но у меня его нет, – полушепотом проговорил Роберт.
– Да я и без тебя понял, что огнетушитель. Ну нет и нет. Сейчас этот славянский рейнджер отведет тебя в лесные чащобы и расстреляет, на хер. За несоблюдение правил пожарной безопасности в польских лесах.
Мой нетрезвый смех окончательно вывел Роберта из себя. Назвав меня идиотом, он плюнул. Забыл, что не на улице. Слюна потекла по сердцевине руля, украшенной известной эмблемой. Потомок жертв Сусанина предложил Роберту выйти из машины и препроводил к автобусу. Вернулся мой компаньон минут через десять.
– Сколько? – спрашиваю.
– Сто баксов. Суки…
– Краковяк-то хоть станцевали?
– Хватит умничать! – заорал Роберт. – Меня дочь дома ждет!
– И жена Оля. Грозная и непредсказуемая жена Оля… И орать ты будешь на нее, а не на меня!
Мою жену тоже зовут Оля. Большие глаза, пшеничные волосы, такие же мозги. Как и у меня. Человек в здравом уме не позволит себе такого брака. Анна назвала Ольгу дворняжкой, сказала это, когда я вставал с постели. Конечно же, пришлось Анну осадить, но она права… А я всегда жалел и подкармливал дворняжек. Псины отвечали радостным поскуливанием, виляя хвостами. С людьми не так.
Поляков мы прошли споро. Я протянул служивому флягу, провоцировал выпить за Новый год и процветание Речи Посполитой. Он с улыбкой отказался, пожелав счастливой дороги. Машина плавно тронулась к литовскому КПП. Взяв у Роберта документы, я направился к небольшой будке.
Внутри сидел тучный пунцовый мужчина. Страж границы напоминал борова, втиснутого в матерчатый домик для кошек. На левой груди пузана висела табличка с фамилией Козлявичюс. Жизнь сталкивала меня с тремя людьми, носящими фамилию Козлов. Не считая знатока из телевизора. Все трое заслуживали туннеля скотобойни.
Медленно листая мой паспорт, таможенник изрек:
– Ну вот и приплыли, господин Аракелов.
Не сказать что я испугался. Скорее, расстроился. У меня отберут модное кашне, тугой ремень и шнурки от новых итальянских ботинок. В КПЗ не нальют. Там даже нет радиоточки, по которой можно прослушать звон бокалов. Да и Оля пахнет приятнее, чем клопы.
– В смысле – «приплыли», господин Козлявичюс?
– Как приплывают, так и приплыли, – неприятно усмехнулся литовец с русскими корнями.
– Ну приплыли так приплыли. И за что, если не секрет?
– Не за что, а куда. В Литву приплыли, господин Аракелов! В Литву! Шуток не понимаете?
Вот сука, думаю. Я бы тебе приплыл. Доху на твою хрячью тушу натянуть да в полынью с морозостойкими пираньями бросить.
– Хорошие у вас шутки, господин Козлявичюс. Небось в Советской армии прапорщиком послужить успели?
Мне не стоило произносить этой фразы. Разве что про себя. И виски здесь ни при чем. Это несдержанность и врожденная тяга к конфликтным ситуациям… Козлявичюс надул и без того пухлые щеки. Ничего не ответив, принялся за паспорт Роберта. Меня так и подмывало сказать: «Сейчас вы одновременно похожи на козла и бурундука. Причем беременного».
– А где Дереникс, господин Аракелов? – ожил таможенник.
– Огнетушитель, что ли?
– Какой огнетушитель? – процедил Козлявичюс.
– Неподалеку отсюда нас остановили поляки. Гасницу спрашивали. Гасница по-польски – огнетушитель. Может, дереникс – это огнетушитель по-литовски?
– Хм… Странно, Аракелов. Очень странно… Здесь русским языком написано: Дереникс Вартанянс, – он развернул ко мне паспорт Роберта.
Написано было, конечно же, не по-русски, а по-латышски. Но написано именно то, о чем говорил Козлявичюс.
Метнувшись к авто, рванул дверцу:
– Роберт, ты что, тля, Дереникс?
– А че? Не знал, что ли? Только не Дереникс и не тля. А Дереник. Я же тебя Артемс не называю.
– Баран, – просипел я.
– Дереник, а не баран. А баран это ты.
Цепочка «гасница – Козлявичюс – Дереникс» приобрела очертания дурного знака. Я подбежал к будке:
– Господин Козлявичюс! А вон Дереникс! Вон, гляньте! Лицо вам свое с удовольствием показывает.
К лобовому стеклу вытянулась огромная голова Роберта. Из-под черных густых усов проглядывала улыбка.
– На Сталина похож, – бросив взгляд в сторону машины, проговорил Козлявичюс. – Сталин бабку мою в Сибирь выслал. За мешок картошки выслал мою бабушку Аудроню в Сибирь. Там она и померла. Деда они раньше в расход пустили. Сволочи…
– Да не то слово, – поддакнул я. – Просто негодяи без чести и совести. Но Дереник – он добрый. Тот случай, когда внешность обманчива. Его даже собака и теща больше, чем жена, любят.
– Может быть, может быть… Но странно все как-то получается. Шутка моя вас напрягла. Прапорщиком «красным» обозвали. Едете в одной машине и не знаете, как земляка зовут. Тот вообще на тирана похож, который мою бабку Аудроню в Сибирь выслал. Какие-то вы, ребята, левые.
Ну, то, что мы ребята далеко не правые, ясно было и без резюме Козлявичюса. Может, поэтому все мои оправдания выглядели по-детски. Я говорил, что мы честные латышские армяне, и нам не терпится положить под елку подарки, которых так ждут наши плачущие дети. Что в баскетболе для меня не существует другой команды, кроме «Жальгириса», а «золотой» состав клуба я помню до сих пор наизусть. Даже уверения в знании истории рода Гедиминовичей не смогли убедить Козлявичюса изменить решение. А решение говорило о том, что Новый год нам дома справлять не придется.
– Повторяю: машину – на тщательный досмотр, господин Аракелов.
– То есть?.. То есть здравствуй жопа Новый год, господин Козлявичюс, – сказал я, достав фляжку. Терять было нечего.
Мне стало жалко Дереникса – Роберта. «Мерседес» надежен, крепок, как автомат Калашникова. Но автомат может собрать и разобрать даже хорошо выдрессированный примат. А проделать эту операцию с «мерседесом» по силам только немецким специалистам. Во всяком случае, без нанесения ущерба автомобилю…
Известие о внеплановом техосмотре с последствиями придавило Дереникса к рулевой колонке. Меня предательски покидал хмель. Пока мой компаньон отгонял машину в специальный бокс, я успел сходить в магазин duty free. В пакете булькали две бутылки виски, литровая «кола» и коробка шоколадных трюфелей. Кушать мне в этот вечер хотелось только виски.
После визита в бокс Дереникс выглядел еще подавленней. Сразу попросил выпить. После трех больших глотков, сделанных из бутылки, направился в сторону будки с Козлявичюсом. Он клялся мамой, что всего этого так не оставит. Указывая на меня, грозился, что я подключу «каунасских» и «вильнюсских». В эти мгновения подумалось, что он такой же идиот, как живой шлагбаум в виде Козлявичюса. В финале сцены Дереникс поклялся могилой дедушки, что Козлявичюса найдут и силком превратят в гомосексуалиста. Пришлось вмешаться. Извинившись, я оттащил дебошира в сторонку:
– Дереникс, прекрати буянить. Будь романтиком. Новый год на государственной границе братской республики! Всю жизнь помнить будем. Прекрати, Дереникс!
– Черт, прекрати называть меня Дерениксом! Меня под елкой любимая дочь ждет!
– Под елкой? Дочь? Дочь под елкой?.. Я тебе больше не дам виски, Дереникс. Тем более из горла.
В кармане заботливого отца заверещал мобильный. Сначала Дереникс говорил с дочерью. Объяснял, каким тяжелым выдался вояж папы-контрабандиста. Рассказывал, как папа устал и поэтому приедет с подарками только завтра. Что девочка передала трубку Оле – я понял по мимике Дереникса. Несколько раз он повторял слова «проблемы» и «сюрприз». Но Ольга не спешила сочувствовать проблемам и была равнодушна к сюрпризу.
– Вот сучка! Я ей правду говорю, а она талдычит, что мы по проституткам с тобой гуляем.
– Да я слышал.
– Что ты слышал?
– Слышал, как она тебя колченогим чудовищем обозвала, – я начал хохотать. – И, судя по всему, с места, которое она так хорошо знает.
Звонок от моей супруги раздался, когда мы сидели в небольшом кафе при терминале. Почти все столики были заняты дальнобойщиками. В зале громко играла музыка. То и дело раздавался смех. Я вышел на улицу. Пляски снежинок под матерные тирады Ольги смотрелись убого. Она кипела от злости: в магазинах Белостока не оказалось плаща белой кожи. Лучшая реакция – молчание. И я молчал. Оля продолжала орать: