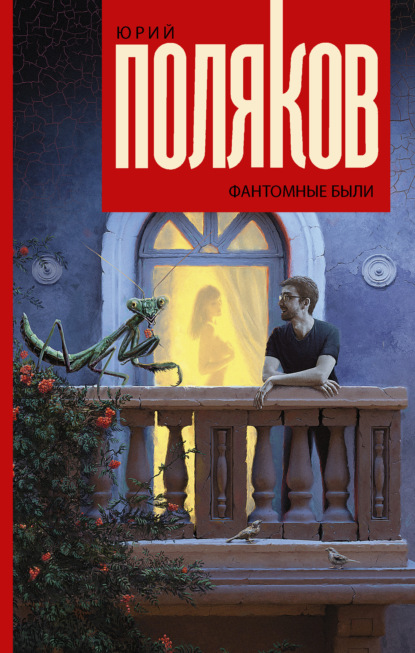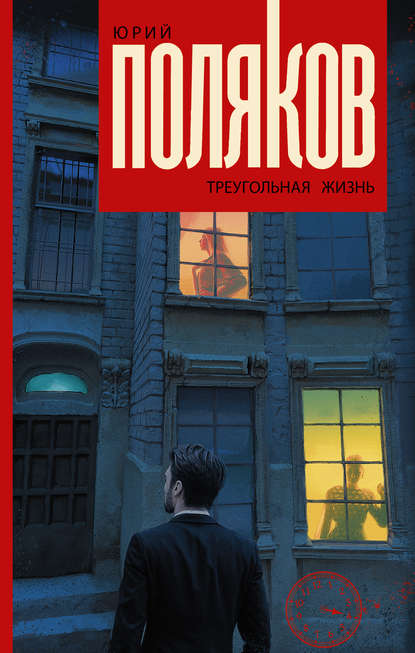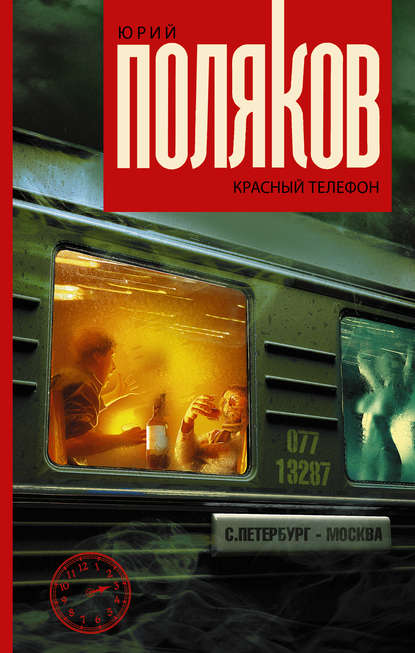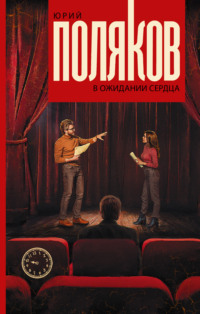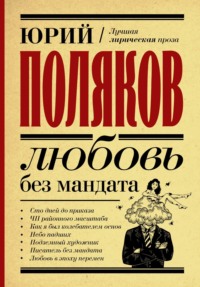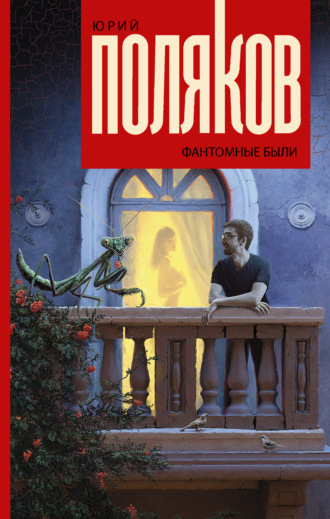
Полная версия
Фантомные были
Однако у меня всегда было ощущение, что вставные новеллы «Гипсового трубача» – это не просто некие контрфорсы романного здания, закамуфлированные под «атлантов» и «кариатид», но еще и самостоятельные прозаические «пиесы», как говаривали в старину. Первым идею вычленить их из текста, скомпоновать в сборник и выпустить отдельной книгой мне подал один умный критик. Он сказал примерно так: «Знаешь, Юра, эти твои вставки напоминают самоцветные камешки в окладе. Все вместе они образуют сложный узор, изображение, дополняют и оттеняют друг друга, но так порой и хочется выковырять каждый из гнезда, покатать в руках и посмотреть через них на свет…» Оставляю похвалу на совести моего «аристарха» – так когда-то называли добрых критиков, а злых соответственно – «зоилами». Однако автору доброе слово, как и кошке, всегда приятно. В подтверждение своих мыслей критик даже напомнил мне литературный прецедент: Борис Лавренев в 1920-е писал огромный роман о революции и Гражданской войне, куда в виде глав входили знаменитые впоследствии новеллы, такие как «Сорок первый», публиковавшиеся потом как отдельные рассказы и повести.
Идея запала в душу. Поначалу мне казалось, «извлечение» произойдет легко и быстро. Как я ошибся! Да, некоторые сюжеты, к примеру «Песьи муки» или «Космическая плесень», в самом деле легко «вынимались» из гнезд: отогнул «лапки» и пожалуйста – разглядывай на свет. Но потом начались проблемы. Такие новеллы, как «Ошибка Пат Сэлендж» или «Голая прокурорша», пришлось буквально «выковыривать» из текста, причем из разных глав. И совсем уж тяжко обстояли дела с «Любовником из косметички» или «Скифским взглядом», ведь эти истории рассказываются персонами в режиме прямого времени, иной раз в нескольких версиях, наползающих друг на друга в стремлении к совершенству. Борьба хорошего с лучшим – штука опасная, а если очень долго и старательно точить нож, в конце концов у тебя останется одна ручка. Как тут быть? Я решил сохранить сказовую манеру, частично оставил даже комментирующие диалоги героев, охваченных вдохновением. Мимесис так мимесис! Впрочем, историю четырех братьев-поляков Болтянских, буквально размазанную по всему обширному роману, я так и не смог «выковырять» из дюжины глав и свести воедино, поэтому-то она, наряду с другими вставными новеллами, не вошла в «Фантомные были»…
Но не беда: тот, кто читал «Гипсового трубача», наверняка – и так помнит сюжеты, не включенные в этот сборник. А того, кто захочет, прочтя эту книгу, взять в руки всю мою (предупреждаю – увесистую) ироническую эпопею, ждут интересные открытия. Можно будет увидеть, как истории, знакомые по отдельности, складываются в единый романный узор, в качественно иное произведение. Кстати, если такое желание у кого-то появится, рекомендую воспользоваться изданием «Гипсового трубача» (АСТ, 2014 года) с красивой медной трубой на обложке. Оно не только «серьезно исправлено и смешно дополнено», но в конце книги помещено мое обширное эссе «Как я ваял „Гипсового трубача“».
В заключение осталось добавить: учитывая тематические, жанровые и стилистические особенности «извлеченных» повестей и рассказов, я разделил эту книгу на четыре части: «Томные аллеи», «Бахрома жизни», «Алтарь Синемопы» и «Фантомные были». Последнее словосочетание пришло мне в голову, когда я уже готовил сборник, и оно показалось довольно-таки точным определением самой сути художественного творчества, в нашем случае – литературы, которая и есть придуманная правда, о чем я не раз уже писал и говорил. Если же вас в искусстве больше интересуют фантомные небылицы, то с этим вопросом обращайтесь, пожалуйста, не ко мне, а в жюри «Русского Букера»…
Юрий Поляков,
Переделкино, июнь 2017
Первая часть
Томные аллеи
Три позы Казановы
Когда-то в молодости я занимался творчеством Валерия Брюсова и нашел в его рукописях набросок про кавалергарда Жоржа Гурского, прославленного ловеласа Серебряного века. Заинтересовавшись, я стал расспрашивать о нем старушек, приходивших на литературные посиделки в музей Брюсова, что на Большой Мещанской, и по их уклончиво-нежным ответам понял: Жорж оставил в душах и телах современниц неизгладимый след. Удалось выяснить, что он, чудом уцелев в огне Гражданской войны, не уехал из Красной России, женился на комсомолке, трудился в заготовительной кооперации и превратился с годами в скромного советского пенсионера. А умирая, ветхий кавалергард решил по наследству передать внуку Вениамину страшную сексуальную тайну, которую получил в свою очередь от везучего предка, выигравшего пикантный секрет в карты у самого Казановы. Об этом много шептались тогда в свете, и отголоски пересудов можно найти, если вчитаться, даже в ахматовской «Поэме без героя», не говоря уж о брюсовском «Огненном ангеле». Есть версия, что и Пушкин использовал историю Жоржа Гурского в своей «Пиковой даме», переместив, так сказать, сюжет с батистовых простыней алькова на зеленое карточное сукно.
А Веня, скажу я вам, был редким рохлей, занудой и раздолбаем. В общем, троечником. Между тем суть тайны заключалась вот в чем: Казанова знал три сексуальные позы, которые при строго определенном чередовании ввергали женщину в неземное блаженство и навсегда привязывали к мужчине, буквально – порабощали. По секрету доносили: когда кавалергард отправлялся со своим полком на германский фронт, толпы безутешных красавиц, рыдая, стеная, ломая руки и теряя бриллианты, бежали по шпалам за воинским эшелоном почти до Можайска…
Умирая, склеротический старик успел сообщить внуку только две позы и отошел в лучший мир. Похоронив деда, Веня впал в отчаяние. Он был безнадежно влюблен в неприступную, как сопромат, однокурсницу Веру, не обращавшую на невзрачного троечника никакого внимания. Чтобы отвлечься от горьких мыслей, Веня решил самостоятельно разгадать недостающий элемент тайного трехчлена Казановы. Но как это сделать? Для начала студент купил за две стипендии на Кузнецком Мосту древний учебник любви «Цветок персика», тайно привезенный кем-то из-за границы. Книга была на английском языке – скрепя сердце парень сел за словари и грамматику. Некоторые позы, изображенные в иллюстрациях, оказались настолько хитросплетенными и гимнастическими, что воспроизвести их наш рохля не смог. Пришлось всерьез заняться физкультурой и даже спортом.
В трудах и тренировках прошло два года. Дальше предстояли практические занятия, но чтобы вовлечь какую-нибудь приятную женщину в предосудительный эксперимент, надо было для начала ей хотя бы понравиться. Ну в самом деле, ведь не подкатишь к милой незнакомке со словами: «Гражданочка, мой дед, старый хрыч, умирая, оставил мне две трети сексуальной тайны Казановы. Есть предложение: вместе и дружно…» В следующую минуту она в лучшем случае звонко бьет нахала по лицу, в худшем – зовет милиционера, а тот – психиатра. В итоге Веня был вынужден обратить пристальное внимание на свою внешность: стрижку, зубы, одежду, манеры. Он даже записался в школу бальных танцев и кружок прикладного этикета. Ну и, разумеется, вывел прыщи на лице с помощью настойки чистотела.
А тут как раз подоспел Московский фестиваль молодежи и студентов 1957 года, во время которого, как известно, целомудренное советское общество значительно раздвинуло свои эротические горизонты. Достаточно вспомнить бесчисленных разноцветных «детей фестиваля», родившихся девять месяцев спустя. Итак, со всех континентов в столицу первого в мире государства рабочих и крестьян слетелись тысячи красивых девушек всех, как говорится, цветов и фасонов. Именно этот праздник молодого духа и юной плоти как нельзя лучше подходил для разгадки тайны великого сластолюбца Казановы. Надо заметить, Веня хорошо подготовился и свой шанс упускать не собирался. Элегантный, спортивный, обходительный, свободно владеющий английским и французским, сорока пятью видами поцелуев и семьюдесятью двумя сексуальными позами, он сразу привлек внимание раскрепощенных иностранных дев. После первого же вечера интернациональной дружбы Веня ушел гулять по ночной Москве с француженкой алжирского происхождения Аннет, успев назначить на следующий день свидание Джоан, американке из Оклахома-Сити, штат Оклахома. А на послезавтра он сговорился с миниатюрной, как фарфоровая гейша, японочкой Тохито…
Однако не успел Вениамин уединиться с Аннет на укромной скамеечке Нескучного сада и подарить ей поцелуй, называющийся «Чайка, открывающая раковину моллюска», как двое крепких мужчин, одетых в модные, но совершенно одинаковые тенниски, подошли и попросили огоньку. Поскольку наш герой табаком не баловался, ему пришлось предъявить уполномоченным курильщикам студенческий билет и пройти с ними куда следует. Там наследнику Казановы разъяснили, что за попытку вовлечь иностранную подданную в интимные отношения ему грозят большие неприятности, вплоть до тюрьмы. Ведь именно так, в объятиях расхожих красоток, и вербуют легковерных советских граждан западные разведки. Но поскольку зайти далеко студент не успел, для первого раза органы ограничатся минимальным наказанием – письмом в институт.
Персональное дело несчастного Вени Гурского разбирали на закрытом комсомольском собрании. Поначалу все шло к исключению из рядов ВЛКСМ, а следовательно, к окончательной жизненной катастрофе. Оскорбленные однокурсницы жаждали крови. Ишь ты! Тут пруд пруди своих нецелованных соратниц по борьбе за знания, а его, гада, на импорт потянуло! Однокурсники же озверели от зависти – ведь никто из них не отважился даже близко подойти к капиталистическим прелестницам. Декан факультета, в свое время так и не решившийся убежать от постылой жены к горячо любимой аспирантке, тоже, хмурясь, требовал самых суровых мер.
И вдруг, к всеобщему изумлению, за аморального юношу страстно вступилась строгая Вера, та самая отличница, в которую наш герой был безнадежно влюблен, покуда не впал в казановщину. Мудрая девица заявила, что исключить из рядов – значит расписаться в полной идейно-педагогической беспомощности коллектива, и высказала готовность взять оступившегося товарища на поруки. При этом она смотрела на Bеню такими глазами, что он сразу понял: любим, и любим горячо! А как, в самом деле, не увлечься парнем – спортивным, подтянутым, обходительным, аккуратным, модно одетым, танцующим и свободно говорящим на двух языках? Разве много таких?
Взяв Веню на поруки, Вера его уже не выпустила. Вскоре молодые люди зарегистрировались в загсе, устроив в студенческом общежитии грандиозные танцы под патефон. Прошли годы. Обглоданный Советский Союз называется теперь Россией, а КГБ – ФСБ. Но Вениамин Сергеевич и Вера Михайловна до сих пор вместе, а судя по тому, как они смотрели друг на друга в свой золотой юбилей, именно с законной супругой счастливчику удалось-таки найти третью позу Казановы. Или не удалось… Разве это важно, когда любишь?
«Сигнатюр»
Каждый год, в конце августа, а точнее, в последнее воскресенье месяца, Львов достает с антресолей корзину, резиновые сапоги, старый плащ и ветхую дерматиновую кепку, которую носил еще в студенчестве. С вечера готовит он себе и еду: три бутерброда, сложенные как бы в один, несколько сваренных вкрутую яиц, большой огурец домашней засолки, очищенную луковку и соль, насыпанную в бумажный кулечек. В термос Львов наливает крепкий чай с лимоном и без сахара: боится раннего диабета, погубившего отца. Потом ставит стрелку на четыре и, накапав в рюмку валерьянки, ложится спать…
Вскакивает он при первом дребезжании будильника и старается поскорей его прихлопнуть, но жена обычно все-таки вскидывается, и Львов, смущенно поймав на себе ее бессмысленный спросонья взгляд, тихонько встает и, неся тапочки в руках, прокрадывается через проходную комнату, где спят дочь с зятем, на кухню. Там он наскоро пьет растворимый кофе с овсяным печеньем, одевается и, тихонько щелкнув замком, покидает квартиру. На улице светло от фонарей. Львов, определив корзинку на сгиб локтя, быстрым шагом идет к платформе, что в двадцати минутах ходьбы от дома. Холодно, изо рта вьется парок: все-таки конец августа.
На станции, несмотря на ранний час, оживленно: толпятся люди, одетые с той же, что и Львов, страннической простотой и с обязательными корзинами в руках. Они высматривают мелькающий свет желанной электрички. Львов покупает билет до Ступино, второпях забывает сдачу, суетливо возвращается и едва успевает влезть в смыкающиеся с шипением двери. Мест свободных много, он садится к окну и, прислонившись к прохладному стеклу, – едет. Через некоторое время ему начинает казаться, будто поезд – это бур, пробивающийся сквозь огромный твердый кристалл, темный с краев, но становящийся все светлей и прозрачней к сердцевине, в которой, очевидно, и прячется нерастраченное утреннее солнце.
На платформу Ступино выходит с десяток людей – в руках у них корзины, ведра, большие целлофановые пакеты. Львов с лукавым терпением опытного грибника дожидается, пока они скроются в деревьях, а потом по ведомой ему узкой тропке, обойдя поселок, углубляется в лес. Хотя солнце уже чуть привстало над горизонтом, вокруг еще сумеречно – листва и стволы кажутся сероватыми, точно в черно-белом фильме. Львову нравится утренний предосенний лес с влажным шуршанием листьев, запахом прели и птичьим безмолвием.
Прошагав минут двадцать и ощутив, как от росы брюки намокли до колен, он достигает наконец первой заветной полянки. Там, в мшистом треугольнике, между пожелтевшей березой и двумя елочками, его всегда ждет удача. Вот и теперь большой белый гриб на высокой ножке стоит вызывающе бесшабашно. Наверное, среди грибов, как и среди людей, тоже есть смельчаки, которые первыми поднимаются в атаку и, погибая, отводят опасность от других…
Срезав смельчака ножом, Львов внимательно оглядывается, даже приседает для лучшего обзора. Он никогда не уходит сразу, но тщательно обшаривает все вокруг, заглядывая под каждую еловую лапу, и, как правило, находит еще два-три трусливо затаившихся боровичка. «Храбрец умирает один раз, а трус тысячу!» – вслух бормочет он, обскребывая ножом землю с толстых ножек. Потом Львов идет глубже в лес, сверяясь с памятными приметами: оврагом, поросшим осинами, ельником, становящимся год от года все выше и гуще, огромным тракторным колесом, невесть откуда взявшимся в чащобе. Попутно он заглядывает в два-три места: на кочках подсохшего болотца собирает белесые подберезовики, в основном, правда, червивые, привычно подхватывает высыпавшие на просеку красноголовики с крапчатыми долгими ножками. А в маленьких квадратных овражках, оставшихся от военных землянок, Львов собирает чернушки. Их много, но они скрыты сухой листвой, поэтому искать их надо, ползая на коленях и разгребая руками душистые предосенние вороха с белыми мохеровыми нитями потревоженных грибниц.
Последнее заветное место его грибных угодий – огромное поваленное обомшелое дерево, в эту пору обсыпанное мясистыми опятами. Однако сегодня Львову не везет: наполовину вросший в землю ствол покрыт бесчисленными ножками, оставшимися от срезанных шляпок, культи завялились на кончиках и стали похожи на бородавчатую шкуру допотопного чудовища. Но наш герой горюет недолго, смотрит вверх – там, на высоте трех метров, на березе растут большие, белесые от спорового порошка опята. Он срезает длинную лещину, очищает от тонких веточек, чтобы получилось как бы удилище, и, размахнувшись, со свистом, ловко, в несколько ударов сбивает эти высокоствольные грибы. Корзина почти полна, и можно возвращаться. Но Львов почему-то идет дальше.
Прошагав с километр, он оказывается у серого бетонного забора, украшенного кое-где любовными признаниями, а также нехорошими надписями. Некоторые секции от старости выпали из общего ряда и лежали тут же, покрытые зеленым лишайником. За оградой был старенький заброшенный пионерский лагерь. Деревянные корпуса, похожие на бараки, выкрашенные когда-то в веселенький желтый цвет, сиротливо стояли под почерневшими, провалившимися кое-где шиферными крышами. Окна пустовали: рамы давно уже выломаны и унесены умельцами из близлежащего садово-огородного товарищества.
Линейка для торжественных построений пионерии, когда-то ухоженная, посыпанная гравием, обсаженная цветами и пузыреплодником, заросла березками, крапивой, полынью, лиловой недотрогой… От трибуны (к ней, чеканя шаг, шли некогда председатели отрядов, чтобы звонкими голосами отдать рапорт) осталось только бетонное основание: кованые перила тоже уволокли. Металлический флагшток проржавел и покосился. Тросик для поднятия флага, лопнув, завился, точно усы железного хмеля.
Дальше, за линейкой, начиналась аллея пионеров-героев. От нее сохранились лишь сваренные из уголков ржавые перекошенные рамы. В одной уцелел кусок фанеры с остатком юного лица: судя по раскосым глазам, это был маленький чабан Марат Казей, который то ли задержал нарушителей горной границы, то ли спас отару от волков, Львов уже не помнил. А в самом конце аллеи, перед буйными зарослями сирени, окружавшими хоздвор, словно на страже этого затерянного пионерского мира стояли друг против друга гипсовые барабанщик и трубач. Точнее сказать, когда-то они были барабанщиком и трубачом. От первого остались ноги в гетрах и половина барабана, повисшего на согнувшейся проволочной арматуре. Туловище отсутствовало. Кому оно могло понадобиться и куда его унесли? А вот трубач оказался поцелее: у него лишь откололась левая рука, но кисть, упертая в бок, сохранилась. Был также отломан мундштук горна, и выходило, что трубач дул в пространство. Остальное – и задорное курносое лицо, и гипсовый галстук, и короткие штанишки – все уцелело. Только побелка давно сошла, и горнист стал синюшного цвета, точно давний утопленник.
Львов поставил корзину и уселся возле постаментика. Ровно, как море, шумел лес. Припекало колючее осеннее солнце. В небе плыли крепко сбитые кучевые облака. Его сердце наполнилось той непередаваемой сладкой болью, которая охватывает нас лишь при посещении давних жизненных мест и, наверное, служит своеобразным, дарованным свыше наркозом, позволяющим сердцу не разорваться от сознания жестокой необратимости времени.
Львов достал свой нехитрый завтрак, порезал соленый огурец и луковку, разъял успевший слежаться многослойный бутерброд, разбил о коленку трубача яйцо и стал жевать, подливая себе чай из термоса. В колпачок, служивший стаканом, выпал кружок измученного лимона. Грибник выловил его пальцами и, морщась, съел.
Пестрый августовский лес, высоко обступивший то, что когда-то было пионерским лагерем, еле слышно роптал о том, что сделало время с этим некогда живым детским оазисом. Иногда с деревьев беззвучно срывался лист и, петляя в воздухе, ложился на траву. Земля постепенно становилась похожа на лоскутное бабушкино одеяло. Вдруг пахнуло знакомыми духами, и он услышал звуки давней, забытой песни, которая была в то лето страшно популярна – и ее по несколько раз в день крутил лагерный радиоузел. Он даже оглянулся, ища алюминиевые репродукторы, висевшие когда-то на столбах, но их давно уж не стало. И Львов понял, что мелодия звучит в нем самом, а губы невольно шепчут забытые слова:
Только прошу тебя, не плачь!Только прошу тебя, не плачь!Я удержу в своих ладонях твою руку!Ты слышишь, гипсовый трубач,Старенький гипсовый трубачТихо играет нашу первую разлуку!Она очень любила эту песню и все время напевала. После отбоя и вечернего педсовета, когда лагерь спал, они встречались здесь, возле гипсового трубача, в зарослях отцветшей сирени. Он снимал свою куртку, украшенную нашивками студенческого стройотряда, и набрасывал на ее зябнущие плечи. Вечера были уже прохладные. Последняя, третья, смена заканчивалась. Им предстояло расстаться и разъехаться по домам.
Юный Львов старался не думать об этом, как не думают в молодости о смерти, но, конечно, понимал: скоро все закончится, – и не мог, не хотел смириться с тем, что вот эта звенящая нежность, наполнявшая его тело с того самого момента, когда он впервые увидел ее на педсовете, так и погибнет, развеется в неловких словах, случайных касаниях рук, косвенных взглядах, улыбках, полных головокружительной плотской тайны. Кажется, она чувствовала нечто схожее, день ото дня смотрела на него с нараставшей серьезностью, даже хмурилась, точно готовясь принять очень сложное и важное решение.
А поцеловались они за всю смену только раз, во время вожатского костра, разведенного на Веселой поляне. Она вдруг взглянула на него так, что он все сразу понял. Посидев немного со всеми, они, не сговариваясь, незаметно ушли в лес, в темноту, подальше от пьяных голосов, гитарного скрежета и огромных пляшущих теней. Из ночной глубины леса костер казался огненной птицей, бьющейся в решетке черных стволов и веток. Львов тихо обнял ее и поцеловал. Губы у нее оказались мягкие, нежные и доверчивые. Она пахла дымом и духами. Потом, много лет спустя он случайно выяснил, как они называются. «Сигнатюр». Львов даже подарил такой флакон жене к Восьмому марта, но ей духи не понравились. А может, почувствовала что-то. Жены чуют другую женщину, даже прошлую, даже позапрошлую, лучше, чем таможенный сеттер – наркотики.
После поцелуя она, отстранившись, долго-долго смотрела ему в глаза и наконец спросила:
– Ты меня любишь?
– Да, люблю.
– И потом будешь любить?
– Боже… Нина… Конечно… – задохнулся Львов.
Он почувствовал: в этом робком «потом» уже очнулось и распустилось вечнозеленое слово «любовь». Накануне отъезда Нина сама подошла к нему и назначила свидание возле гипсового трубача, ночью, после прощального костра. Львов даже не слышал ее шагов, а только уловил запах «Сигнатюра» и ощутил, вздрогнув, как ее легкие ладони легли ему на плечи. Он обернулся, их дыхания встретились – сначала дыхания, потом руки, губы, тела… Под платьицем у Нины не было ничего, кроме бездны женской наготы. Они любили друг друга прямо на мшистой земле, шатавшейся и кружившейся под ними. Любили прямо у подножия гипсового горниста, беззвучно трубившего в ночное небо гимн их невозможному счастью, которое в единый миг пронзило их обоих, как пронзал копьем суровый ветхозаветный пророк иудеев, обнимавших чужеверных дев.
Потом они лежали недвижно и смотрели на звезды.
– Ты знаешь, что это? – спросила она, показывая на млечное крошево, рассыпанное по горнему темно-синему бархату.
– Что?
– Каждая звезда – это любовь. Когда любовь заканчивается, звезда падает. Вон, видишь – полетела! Это кто-то кого-то разлюбил…
– Я тебя не разлюблю!
– Я знаю…
– Я тебя очень люблю.
– Я и это знаю…
– Не уезжай!
– Не бойся! Я к тебе приеду. Скоро! Съезжу только к родителям. Мама болеет…
– А где живут твои родители? – Львов почувствовал щемящую странность своего вопроса.
Он обнимает тело самой близкой, навеки ему теперь принадлежащей юной женщины, а сам не знает даже, где живут ее родители! Чудовищно…
– В Анапе.
– Это у моря?
– Прямо на берегу! Представляешь, мы сможем там отдыхать. Без всяких путевок. Я хочу, чтобы однажды мы сделали это в море, ночью…
– Я тоже… Я тебе буду звонить.
– Мне некуда звонить. В Анапе у нас нет телефона. А в общежитии вахтерши никогда не позовут, особенно если мужской голос. Вредные.
– И много у тебя было мужских голосов? – с болезненной веселостью спросил Львов.
– Ах, паршивец! Он еще спрашивает! Как будто не понял! – смешливо возмутилась Нина и тихонько шлепнула его ладонью по губам.
– Я тебе буду писать! – пообещал он, привлекая ее к себе.
– Пиши…
Внезапно она рывком села и оттолкнула его. Львов испугался, даже обиделся.
– Здесь… здесь кто-то есть! Кто-то смотрит на нас… – задыхаясь, прошептала Нина, испуганно вглядываясь в темные силуэты кустов и прикрывая грудь скомканным платьем.
– Нет здесь никого. Мы одни. Все спят…
– Правда?
– Правда!
– Извини! Мне показалось… – Словно ища прощения, она заставила его лечь и нежно склонилась над ним.
Вернувшись домой в Москву, он ждал ее звонка. Подбегал к телефону, но каждый раз это была не она. Написал несколько писем на адрес общежития, который Нина оставила ему перед разлукой. И получил ответ от коменданта общежития по фамилии Строконь. На тетрадном листке в клеточку от руки, буквами четкими и почти печатными сообщалось, что такая-то «из списков проживающих студентов выбыла в связи со смертью, наступившей в результате авиационной катастрофы, случившейся при посадке самолета местной линии в аэропорту Анапы…» Далее шла затейливая подпись и круглая фиолетовая печать. Эта печать на клетчатом, неровно оторванном тетрадном листе поразила Львова в самое сердце. Он зарыдал и проплакал до утра.
Прошло лет десять. Он был уже женат. И однажды ему приснилась Нина. Она недвижно стояла возле гипсового трубача в парадной форме пионервожатой: темно-синяя юбка, белая блузка, алый галстук на груди и пилотка-испанка на голове. Девушка молчала, но ее глаза пытались сказать что-то отчаянно важное. Львов проснулся от страшного сердцебиения и ощутил в воздухе запах «Сигнатюра». Он пошел на кухню выпить воды и, случайно глянув на отрывной календарь, обнаружил: завтра день их последнего свидания и первых объятий.