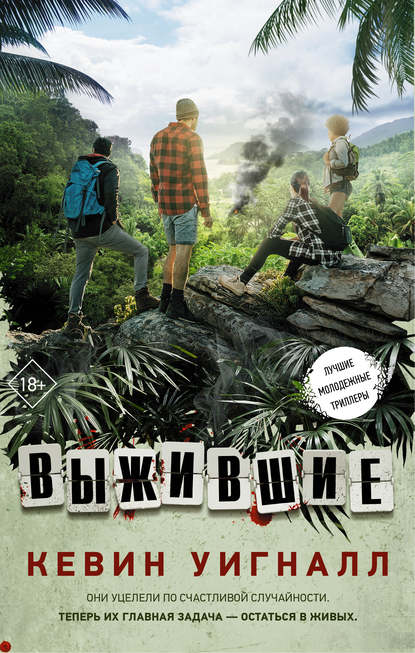Полная версия
Молочные зубы
Мама сунула в электроточилку карандаш и жужжала ею до тех пор, пока тот не стал достаточно острым для того, чтобы выколоть глаз. Этот этап Ханне нравился, и она стала наблюдать за тем, как мама точит второй карандаш. Потом та протянула оба карандаша дочери и подтолкнула лист бумаги.
– Сегодня мы ограничимся малым и устроим короткий учебный день. Первое слово:любить. Я люблю спать. Ты любишь желтый цвет. Любить.
Пока Ханна писала ответ, мама сунула книгу для чтения под мышку, чтобы дочь не могла подглядеть ответ, и вышла на кухню за двумя белыми таблетками и стаканом воды. Потом вернулась и выпила их.
– Ну что, сделала? Готово?
Мама села напротив и помассировала голову с обеих сторон, отчего выражение ее лица приняло странный, неуверенный вид.
Ханна протянула бумагу и дала ей прочесть написанное.
НЕНАВИДЕТЬ
– Неплохая попытка, но сегодня у нас не игра в ассоциации. Не хочешь написать словолюбить?
Ханна покачала головой. Она знала, что мама призывала все имевшееся у нее в запасе терпение, когда они делали уроки, потому как считала это занятиеважным. Папа без конца это повторял, и девочка обычно старалась как могла, чтобы привести его в восторг своим усердием. Но мама должна понимать, что произойдет, если ее силком отдадут в школу. Не надо было ей поднимать этот вопрос.
– Ладно, давай возьмем другое слово. Как насчет…лета. Через пару недель наступит лето. Каждое лето к Ханне приезжают фармор и фарфар[4].
Тоже мне задачка. Ханна написала что-то на бумаге и перевернула ее показать маме.
СУКА
Из маминой груди вырвался тяжелый вздох.
– Не самое милое слово. Я даже не удивляюсь, что ты его знаешь, но не могла бы ты писать то, о чем я тебя прошу? Чем скорее мы с этим покончим, тем быстрее перейдем к чему-то другому.
Ханна неподвижно застыла, готовая к следующему слову.
–Клубника. Клуб-ника. Она не могла есть только клубнику.
Ханна прикрыла бумагу рукой, чтобы мама не увидела, что она пишет.
– Для одного слова как-то длинновато. Что ты там такое строчишь?
Ханна захихикала, продолжая водить карандашом. А когда все было готово, представила свой шедевр.
Да пошла ты, дура бесмосглая
У мамы задергался глаз, и она с силой стиснула челюсти.
– Ну хорошо, на этом достаточно, можешь еще немного позаниматься сама.
Мама встала и потянулась к проверочной работе по правописанию.
Однако Ханна оказалась к этому готова: она разорвала бумажку на мелкие кусочки и рассыпала их по столу.
– Разумеется, никаких доказательств для папы. Ханна, я не хочу сейчас с тобой заниматься. Знаю, тебе не понравились ни компьютерная томография, ни новый доктор, поэтому давай договоримся, что до конца дня ты не будешь больше доставлять мне проблемы, хорошо?
Она смела клочки бумаги в ладонь.
Какие там проблемы, это же весело. Вот как бывает, когда мама теряет терпение. Гадкая, гадкая мама. Может, сделать ей дневник и показать его папе, украсив огромным жирным «неудом»? Впрочем, мама еще не собиралась сдаваться. Она взяла другой учебник и повернула его, чтобы Ханна увидела.
– Можешь прочесть вот этот небольшой кусочек… Он о Древнем Египте: пирамиды, фараоны – что-то вроде королей и королев, тебе понравится. На следующей странице тоже. Послушай, если постараешься, можешь написать что-нибудь иероглифами, они похожи на тайный язык. Например, сочинишь папе секретное послание. Хорошо? Напиши ему, что хочешь. Расскажи, как ударила ребенка в магазине. И как мастерски овладела написанием бранных слов.
Она пошла на кухню, выбросила обрывки проверочной работы в мусорную корзину, потом собрала чистящие средства и резиновые перчатки.
– Кстати, ты допустила ошибку: надо писать «безмозглая». Бесы в голове у мамы не водятся.
Ханна не знала, злиться ей или смеяться. Она не любила, когда ее поправляли. Но всегда с удовольствием глядела на маму в такие минуты, в естественном для нее состоянии ненависти и капитуляции. Папа, если бы это увидел, тут же разглядел бы в ней фальшивку. В его присутствии она всегда была ласковой и щедрой на поцелуи. Но в подобных обстоятельствах не могла устоять и сдавалась. Если Ханна не откажется от своих попыток, мамина маска спадет, папа страшно разозлится и вышвырнет ее из дома.
Читая параграфы, Ханна экспериментировала со звуками.
– Ниа. Биа. Фиа. Пуа. Буа. Дуа.
Ей нравилось их французское звучание.
Она собрала их в непрекращающийся рефрен.
– Ди ди ди ди ди ди ди ди дуа буа пуа. Ми ми ми ми ми ми ми ми ниа фиа биа.
Мама подняла голову над ведром с водой с уксусом и взглянула на нее.
– Меньше пой, а больше читай.
–Би би би би би би би, ла ла ла ла ла ла ла-а-а-а-а-а! Дай ди ду ду дай ди ду дай ба ба ба-а-а-а-а-а!
– Если не знаешь, как воспользоваться голосом, лучше что-нибудьскажи. А так ты лишь выдаешь свою тайну и признаешь, что можешь говорить.
Ханна плотно сжала губы, вытянула их трубочкой, втянула воздух и захлопала ресницами. Мама несколько мгновений сердито смотрела на нее, а потом принялась дальше надраивать и без того чистую кухню. Вот идиотка.
То, как выглядели пирамиды, ей нравилось, однако жить в них Ханне не хотелось: ни единого окна. Потом она прочла, что они служили гробницами фараонам. Дома для мертвецов. Чудеса, да и только! Их хоронили с золотом и едой. Будто покойники могут проголодаться или надеть украшения. Это напомнило ей о том, что она однажды нашла в Интернете на папином компьютере (потому как порой он разрешал ей им пользоваться): сказки о привидениях и ведьмах – существах, не таких, как все, умевших колдовать и делать вещи, от которых волосы вставали дыбом. Однажды, по случаю Хеллоуина, Ханна даже надела черное платье и остроконечную шляпу. Ей отчаянно хотелось знать:а что если они существуют на самом деле? В итоге она взяла в библиотеке книги о всякой нечисти и вывалила папе на колени. Он истолковал все по-своему, терпеливо с ней их прочел, но так и не понял, что она пыталась выяснить, поэтому ей самой пришлось искать о них сведения в Google.
Да, ведьмы существовали в действительности.
Их было великое множество, особенно в прежние времена. Введя в строке запроса «настоящие ведьмы», она вышла на матушку Шиптон и Агнес Сэмпсон[5]. Затем прочла о юных девушках, которых сжигали живьем на костре или бросали тонуть в реку, предварительно привязав камень, под ликующие крики крестьян. Ведьм не любил никто, это было ясно как день, но Ханна никак не могла понять почему. Размышляя о том, в какие веселые игры можно было бы играть, будь у нее подруга ведьма, она хихикала. Вполне возможно, что такая дружба в конечном итоге помогла бы ей сделать то, чего она пыталась добиться в одиночку: выгнать маму, чтобы она никогда больше не возвращалась. Заинтересовавшись охотой на ведьм, она покопалась еще немного и нашла длинный список жертв. Имя одной из них ей до такой степени понравилось, что она помнила его до сих пор: прелестная французская фамилия, сотканная из мягких букв и не имеющая ничего общего с уродливым буквосочетанием нс в ее собственном: Ханна Дженсен.
Она одними губами попробовала произнести словаМари-Анн Дюфоссе. Если повторять его достаточно часто, может, к ней явится дух этой французской девушки, и они станут лучшими подругами. Они вместе могли бы сочинять песни и распевать их. Мари-Анн научила бы ее накладывать заклятия с помощью слов, которых больше никто не понимал. Заклятия, от которых у мамы разорвалось бы сердце.
Мари-Анн Дюфоссе. Мари-Анн Дюфоссе.
Ха, сработало! Мари-Анн любезно подсказала ей правильное произношение.
– Ниа ниа, ниа ниа. Бу ди бу ди ба-а-а! Буа буа буа буа лу ли лу ли ла-а-а-а!
Мама склонила голову набок. Ханна любила, когда она на нее вот так смотрела, ее взгляд говорил:сдаюсь.
– Отлично.
Она схватила ведро, губку, высоко вскинула голову и вышла. Потом поднялась по лестнице и направилась в их с папой спальню.
Ханна захихикала. Это только начало. Благодаря их с Мари-Анн усилиям мама исчезла.
СЮЗЕТТАОна заботилась о доме, будто о новорожденном, который нуждался в постоянном уходе. Сюзетта знала, как выглядит убожество: грязное ведро или щербатая миска под каждой трубой и потолок в желтых разводах облупившейся краски. С тех пор как они стали жить вместе с Алексом, ей больше не нужно было думать об этом. Она любила расхаживать по дому босиком, наслаждаясь приятными ощущениями от соприкосновения с различными поверхностями. Любимым у нее был пол в ванной: прохладный гладкий камень. Легкое покалывание в ногах поднималось вверх к пульсирующей болью голове, принося больше облегчения, чем «Тайленол». Пробивая круговыми движениями путь, она надраила кварцевую столешницу. Алекс не пожалел денег, чтобы превратить их спальню в спа-салон, который она так хотела. Узкая, вытянутая в длину раковина. Ванна с округлыми океанскими изгибами, достаточно большая, чтобы в ней, как в утробе, можно было поместиться вдвоем. Спаренный душ, чтобы они могли встать рядом, закрыть глаза и перенестись далеко-далеко, в туманную Ирландию или благоухающий ароматами Таиланд. Унитаз. Биде. Высокое окно, до половины забранное матовым стеклом. Все белое и чистое. Единственным, чего она не смогла себе позволить, стало звездное небо: на третьем этаже Алекс оборудовал свой кабинет.
Это было сумасбродство и мотовство: порушить внутри весь дом, расширить проемы, установить повсюду большие окна и даже перенести лестничные пролеты. «Йенсен & Голдстейн» только-только разворачивала свою деятельность, но в Питтсбурге отбоя не было от заказчиков, владельцев как личных домов, так и офисных помещений, жаждавших сделать ремонт в скандинавском стиле по экологически чистым технологиям: самая современная отделка, передовые материалы из утилизированного сырья, креативный подход к использованию аксессуаров и всякие архитектурные мелочи. Они брали на работу молодых и ярких мечтателей, ведь именно такими были их заказчики. Спроектировав и реконструировав ряд весьма интересных зданий по всему городу, компания резко набрала популярность. Когда о них написала местная газета, они, помимо прочего, стали специализироваться и на перепланировке бывших церквей. Так что Алекс превратил самый обычный коттедж, купленный сразу после свадьбы, когда им было по двадцать шесть лет, в дом их мечты. На тот момент они уже решили, что у них родится ребенок, с которым Сюзетта будет сидеть дома, по меньшей мере первые несколько лет.
Она поняла, что высматривать на зеркале грязные пятна было ошибкой: в нем женщина видела только себя. Она стащила перчатки. Пригладила волосы. Смыла потеки туши для глаз. Потом сняла пояс, подняла подол платья и посмотрела на заживающие шрамы. Три рубца, оставшихся после лапароскопии, каждый длиной в дюйм, расположенных в стратегическом порядке вокруг четвертого, подвергшегося трансформации: борозды рваной плоти больше не было; кожа туго натянулась, ее стягивала аккуратная линия стежков. Так было лучше – недостаточно для того, чтобы щеголять в бикини, но, может, в своем новом виде старая травма постепенно сойдет на нет.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Болезнь Крона – тяжелое хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, способное поражать все его отделы, от полости рта до прямой кишки.
2
älskling (швед.) – дорогая, дорогой.
3
Lilla gumman (швед.) – крохотуля.
4
Farmor, farfar (швед.) – бабушка и дедушка по отцовской линии.
5
Урсула Саутейл, более известная как матушка Шиптон (1488–1561) – английская провидица, якобы предсказавшая множество событий, в том числе чуму в Лондоне в 1665–1666 годах, вторжение испанской армады и Великий лондонский пожар. Агнес Сэмпсон – шотландская целительница, многими считавшаяся ведьмой. Была сожжена на костре 28 января 1591 года.