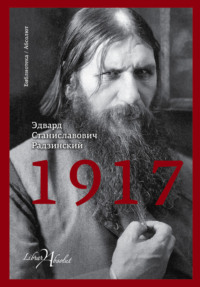Полная версия
Наполеон
Кардинал согласился, и муж де ла Мотт уехал с этим баснословным ожерельем в Англию. Но все разъяснилось, мошенницу де ла Мотт схватили и приговорили к клеймению и розгам. Так наступил мой выход в этом спектакле.
Около шести утра мои помощники разложили ее на эшафоте во дворе тюрьмы Консьержери. Она кричала и проклинала нас. Я дал ей двенадцать ударов розгами – двенадцать ударов по заднице особе королевской крови!
После розог, когда она – с распущенными волосами, в изодранном платье – как пантера металась по камере, я связал ее, взял железо из жаровни и придавил к ее телу. Связанная, она продолжала отбиваться, и лишь кое-как мне удалось наложить клеймо и на другое плечо…
В ушах у меня до сих пор стоит ее крик: «Ты, жалкий палач, смеешь прикасаться к телу королей, ты, грязный ублюдок!»
Она была права – это было мое первое надругательство над королевской плотью.
Была она права и в другом – для людей я был ублюдком, вызывавшим в них страх и отвращение.
И они мне постоянно это доказывали.
Помню, однажды познакомился я с дамой. Благородной дамой. Я был тогда молод, хорош собою, высок, великолепно сложен. У женщин я имел большой успех (естественно, под чужим именем). Я старался изысканно одеваться, хотя и не мог носить голубой цвет – цвет французского дворянства. Однако я не стал рыться в древних пергаментах и поднимать вопрос: лишает ли должность палача звания дворянина. Я попросту заказал себе самое дорогое платье, но из светло-зеленого сукна. Оно так хорошо на мне сидело, что этот цвет вошел в моду, и щеголи при дворе начали носить вместо голубого мой светло-зеленый.
Именно тогда я обратил на себя внимание маркизы X. Мы встретились на обеде, оживленно беседовали. На вопрос о моей службе я ответил, что состою офицером при Парламенте (что было почти правдой – ведь я исполняю высшие приговоры Парламента). Но кто-то из гостей узнал меня, и, когда я ушел, госпожа X. узнала всю правду. Клянусь, она не была бы в большей ярости после знакомства с величайшим преступником!
Она даже подала жалобу в Парламент – требовала, чтобы меня выставили у позорного столба, чтобы я просил у нее прощения с веревкой на шее!
И тогда я выступил в Парламенте и спросил: как я мог обидеть ее знакомством со мною? Сам Бог влагает меч правосудия в руки короля, но, разумеется, сам король не может карать преступников, и он доверяет меч нам – Исполнителям! Я – хранитель меча правосудия, которое составляет атрибут королевской власти. Я укрощаю безумие преступных граждан, и только тупая чернь смеет покрывать позором мое звание. Приходится только сожалеть, что сие предубеждение разделяют порой и порядочные люди…
Они не посмели меня осудить, но их лица выражали презрение и брезгливость. Они старались не смотреть на меня…
Что же касается маркизы X. – впоследствии ей пришлось оценить важность моего занятия. В дни Великой Революции она вновь встретилась со мной – на эшафоте. И это я опустил на ее глупую голову нож гильотины.
Тогда же я женился. Мне опостылело заниматься любовью под чужими именами. Сколько раз после страстных объятий я видел столь же страстное отвращение, как только намекал на свою работу! И вот мне посчастливилось.
В то время окрестности Монмартра были заняты огородами бедняков. Там я и познакомился с бедным семейством одного огородника. Его милой и доброй дочери было за тридцать, она уже смирилась с тем, что останется старой девой.
Вскоре я понял, что вместо ужаса и отвращения, к которым так привык, я внушаю ей сострадание. Тогда я попросил ее руки и получил радостное согласие.
На свадьбу съехались все Сансоны. Среди долгого хмельного застолья ни один не обмолвился о нашей работе. И Месье д'Орлеан, и Месье де Реймс, и прочие братья веселились как обычные добрые буржуа.
Кровь осталась за дверью.
Я купил дом на улице Шато д'О под номером 16. Моя жена разбила там великолепный цветник.
Скоро она подарила мне сына. Веселый младенец играл среди цветов, не подозревая, какое я приготовил ему будущее.
Мы зажили тихо и замкнуто. Жена ввела в доме обычай – дважды в день мы собирались на молитву… И еще она следила за слугами, чтобы никто из них не позволял и намека на занятия хозяина…
Так я жил, тщетно борясь за свое достоинство, пока не грянула она – наша Великая Революция. С эшафота далеко видно, и я раньше многих понял, что она придет.
Это случилось в августе 1788 года. Очередная казнь должна была состояться в Версале, где пребывали тогда двор и король. Осужденный, некий Лушар, совершил отцеубийство – случайно, защищаясь от обезумевшего в гневе отца. Его приговорили к колесованию. Толпа была явно недовольна приговором. Эшафот воздвигали под угрожающий ропот.
Когда Лушар взошел на помост, люди вдруг с яростными криками бросились к месту казни. Они освободили осужденного и водрузили колесо, где должен был мучиться несчастный, на разломанные доски эшафота. Запылал огромный костер. И люди, взявшись за руки, плясали и пели, пока горел он – мой эшафот!
Палачи понимают толпу: люди взбунтовались не из-за несчастного Лушара. Они бунтовали против короля, они хотели беспорядка, они наслаждались погромом…
А король и двор были беспечны. В тот день в Версале был бал, и там тоже весело танцевали – в отсветах грозного костра… Революция упадет как снег на их головы!
Его Величество Людовик XVI… Его бедное жалкое Величество! Я три раза встречался с несчастным королем.
Первый раз я увидел его в связи с денежным затруднением: мне не заплатили жалованье – в казначействе не было денег. Я подал жалобу королю и был вызван в Версаль.
Я остановился на пороге залы, сверкающей мрамором, зеркалами и позолотой. Король не пригласил меня войти. Он стоял спиной ко мне и так провел всю аудиенцию.
– Я приказал, – молвил он, не оборачиваясь, – заплатить вам указанную сумму.
Именно тогда, рассматривая его спину – эту презирающую меня спину, – я отметил сильные мускулы шеи, выступавшие из-под кружевного воротника.
На прощание ему все-таки пришлось обернуться. И король – клянусь! – не смог скрыть ужаса. Нет, это не был обычный трепет человека при виде палача. Это был ужас!
Он будто почувствовал,гдея увижу вновь эти мускулы шеи…
И еще: при выходе из дворца я увидел двух женщин. Одна была – сама величественность и надменность, другая – сама доброта. Это были они: королева и сестра короля – принцесса Елизавета.
Так в один день я увидел всех венценосных особ, которые падут от моей руки…
Как весело началась Революция! С какой праздничной легкостью народ овладел Бастилией! Правда, во всей «зловещей тюрьме тирана» оказалось всего несколько заключенных (один из них был безумен и никак не хотел покидать камеру).
Я буду часто вспоминать почти пустую Бастилию, проходя по переполненным революционным тюрьмам.
Свобода, Равенство и Братство! Или Смерть! О Великая Революция!
Равенство и Братство… Уже 23 декабря 1789 года (этот день – навсегда в моем сердце) на заседании Национального собрания разгорелась дискуссия. Депутаты предложили уничтожить унизительные ограничения, существовавшие для некоторых профессий. В частности, для нас (Исполнителей приговоров) и театральных актеров.
С актерами было все ясно, но палачи стали предметом дискуссии. Два выступления я переписал в Журнал.
Депутат аббат Мари: «Это не предрассудок и не предубеждение. Это справедливость. Каждый человек должен испытывать содрогание при виде господина, хладнокровно лишающего жизни своих ближних. Это основано на понятиях Чести и Справедливости».
И тогда поднялся бледный щуплый человек. Он также (правда, несколько монотонно) заговорил о величии Свободы, Равенства и Братства, о непременном торжестве Всеобщей Справедливости. И потому, заключил он, человек не может быть лишен своих законных прав за исполнение обязанностей, предписанных ему во имя Закона!
Так я в первый раз увидел Робеспьера. И так Революция дала палачам равные права с другими гражданами. Разумные люди даже требовали запретить само постыдное слово «палач» и ввести только наше официальное наименование – «Исполнитель высших приговоров уголовного суда». Но это предложение как-то утонуло в речах…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.