
Полная версия
Птичий рынок
– Здорове-енная была! Ее четыре человека несли. И мой папа тоже.
– А дядь Толя плакал, – сказала Алина.
– Ну дак это его свинья же! И поросята без мамы остались. Один подох уже…
Гордей поежился.
– Ты только никому, понял! – погрозил пальцем и сморщился, как старик, Никита. – Это тайна.
– Почему тайна?
– А-а, узнают в районе, эти примчатся. Всех свиней перережут. Скажут, грипп. И стайки сожгут… Никто не должен знать, понял?
– Понял. – Гордею хотелось сказать: “Я никого больше тут и не знаю, кроме бабы Тани”. Не стал. Повторил твердо:
– Понял. Не скажу.
– Айда обратно, – сказал Никита. – Скоро гуси за пивом пойдут.
Гордей не стал ничего уточнять – какое пиво, какие гуси…
Остановились у ничем не приметного забора. Постояли. И когда Гордею стало так скучно, что он решил сказать, что идет домой, из дыры в заборе полезли большие белые птицы с желтыми носами.
– Во, во! – зашептал Никита. – Гляди.
– Это гуси? – тоже шепотом спросил Гордей.
– Ну да. Не утки ж…
Первый гусь отошел в сторону и остановился, наблюдая за пролезающими в дыру. Тихо гоготал, будто подбадривал или торопил.
Когда гусей стало много – Гордей не умел до стольки считать, – первый пошел по улице, а остальные – за ним. Шли, переваливаясь, держа прямо длинные шеи. На детей не обращали внимания. А те не шевелились. И Гордей тоже.
Лишь когда гуси оказались далековато, Никита сказал:
– Погнали.
И они медленно пошли следом.
– А зачем мы за ними идем? – спросил Гордей.
– Сейчас увидишь.
Перешли улицу с асфальтом. Впереди появился маленький магазин. Гуси остановились недалеко от навеса сбоку, под которым были два высоких стола, а на земле окурки и всякий мелкий мусор.
– Сюда дед Вова пиво пить ходил, – стал объяснять Никита, – а гуси с ним ходили. Ну, он их типа пас… А на днях он умер, а гуси сами стали сюда ходить. Без него.
Гуси стояли молча, вытянув шеи, глядя на один из столов.
– Дед Вова им хлеба кидал, вот и ждут.
И Гордею стал видеться стоящий за столом старик. Он облокотился, спина согнута, одна рука сжимает ручку большой кружки, а другая ломает на кусочки ломоть хлеба. Ломает, ломает, а кинуть не может. А гуси ждут. И старик медленно растворяется в воздухе…
Через какое-то время – Гордей не мог определить, какое, – гуси заволновались, загоготали, повернулись и поковыляли обратно.
– Прикольно, да? – спросила Гордея Алина и улыбнулась, показав пустоту вместо передних зубов.
– Да не очень, – ответил Гордей, но не стал признаваться, что видел старика-призрака.
Дальше шли по асфальтовой улице и встретили девочку с коляской. Алина тут же захныкала:
– Слав, дай мне Юрика покатать.
– Нет, мне мама не разрешает. – Девочка Слава была старше Алины, и Никиты, и Саши.
– Ну, пожа-а-алуйста! Я буду думать, что это мой братик.
Девочка Слава подумала и как-то, как королевна, взмахнула рукой:
– Ну ладно. Только на дорогу не выезжай.
– Да, да!
– И называй Юриком, а не всяко.
– Угу.
Девочка Слава передала коляску Алине и куда-то побежала. А Алина, забыв про мальчишек, покатила ее, покачивая и что-то напевая.
– Она братика или сестренку хочет, а родители не хотят. Вот и катает чужих. И думает, что это ее, – сказал Никита серьезно.
– Я – домой, – объявил сразу погрустневший Саша.
– Давай еще на качели сходим.
– Не хочу.
Никита поморщился:
– Я тоже тогда. Баба, наверно, оладьев напекла. “Дисней” буду с ними смотреть.
И они пошли в разные стороны. Гордей растерянно огляделся – где дом бабы Тани, он не знал.
Поплелся наугад по асфальтовой улице и вскоре увидел магазин с навесом и столами. Долго определял, какая из четырех тянущихся от него узких улочек была той, по которой они с детьми пришли сюда вслед за гусями. Наконец, кажется, определил. Пошагал. И вышел на полянку. Там стоял белый, большой, рогатый козел.
– Мме-е-е! – закричал он пронзительно.
Гордей попятился, а козел пошел к нему. И быстро остановился – идти дальше не давала веревка, привязанная к колу.
– Мме-е-е! – повторил козел.
– Ты кто? – спросил Гордей, хотя понимал, что это животное – козел и козел, совсем как на картинках.
– Ме-е.
– Что?
Козел смотрел на него пристально своими большими выпуклыми глазами.
– Я – Гордей, – сказал Гордей. – Я недавно сюда приехал. К бабе Тане. А мама уехала.
– Ме-е. – Козел тряхнул головой, и тут на его шее, под бородкой, звенькнул колокольчик.
“Козел с бубенчиком”, – вспомнились слова мамы, и Гордей отшатнулся… Он не знал, что такое бубенчик, но наверняка что-то вроде колокольчика. И неужели это папа… Еще одно мамино слово: “Пасется”. Козел пасся.
…И не просто так мама привезла его сюда. Баба Таня – его бабушка. Была и еще одна… умерла. Значит, и папа здесь бывал, приезжал. Ходил, и превратился. А мама не знает, и поехала его искать.
– Папа, – тихо сказал Гордей, вроде и не козлу, а так, будто в сторону, но тот отозвался протяжно, жалобно:
– Ме-е-е.
Гордей увидел, что травка вокруг него короткая, жалкая, и сорвал длинной, мягкой, протянул.
Козел поднял верхнюю губу, обнажив сероватые большие зубы. Не доставал… Гордей подошел ближе, и козел ухватил траву языком, рывками втянул в рот и стал жевать. Глядел на Гордея по-прежнему внимательно, пристально. Потом, перестав жевать, строго сказал:
– Ме-е-е!
Гордей сорвал еще травы. Дал.
– Я не верю, что ты мой папа. Превращаются только в сказках. – Сказал это специально раздельно, уверенно, чтоб посмотреть, как поведет себя этот рогатый с выпученными глазами и некрасивым голосом.
И рогатый ответил особенно громким и почти понятным:
– Мм-не-е-е!
– А?
– М-м-ня-ааа!
– Тебя?.. Тебя заколдовали?
Козел стоял и смотрел на Гордея. Жевать перестал.
– Заколдовали, правда?
И козел затряс головой, колокольчик стал звякать сипло и тускло.
– В-вот он где, голубчик! – раздалось за спиной Гордея.
Он обернулся и увидел торопливо, но медленно из-за старости идущую к нему бабу Таню. Всё в том же переднике, в платке, наползшем на лицо. В руке – палка.
– Я уж всю деревню оббегала, паразит! Думала, собаки сожрали или украл кто на органы… Мне что, пиздюшонок такой, по твоей милости в тюрьму садиться?!
Баба Таня приподняла палку, и Гордею показалось, что она сейчас ударит. Он попятился и ткнулся спиной в твердое, но живое, шевелящееся. Это была голова козла. Рога. Сейчас как даст ими… Гордей не выдержал и заплакал…
Баба Таня не побила, козел не бодался. Несмотря на слезы, Гордей запомнил дорогу до дома. Это было совсем рядом, правда, идти нужно было по совсем узкой, почти целиком заросшей крапивой улочке.
Покричав, баба Таня быстро успокоилась и утром отпустила Гордея гулять. Он пошел к козлу с колокольчиком. С тех пор ходил к нему почти каждый день.
Иногда козла не оказывалось на месте, и Гордей представлял, обмирая от ужаса, что ночью пришла колдунья и съела его. Украла, унесла в свою избушку в лесу, зажарила в печке и съела.
Но на другой день козел появлялся. На той же полянке между заборами или дальше, возле высокого строения, которое называли водонапорка.
Случалось, лил дождь, и Гордей оставался дома. И очень тосковал. Не по козлу, который мог быть заколдованным папой… А может, как раз по нему.
С козлом он почти не разговаривал. Садился рядом, в том месте, до которого не доставала привязь, и смотрел на это рогатое, лупоглазое существо. Наблюдал за ним… По сути, всё было сказано в первый же раз, когда Гордей спросил: “Тебя заколдовали?” – а козел стал трясти головой.
В глубине души Гордею всё стало ясно тогда, но рассказывать о том, кто это в облике козла, он не решался ни бабе Тане, ни ребятам.
Ребята несколько раз приходили на полянку или к водонапорке, обзывали козла обидными словами, а Гордей молчал, лишь смотрел рогатому в глаза и взглядом просил потерпеть. Козел же тряс головой и то жалобно, то зло мекал. Как-то Никита взял ком сухой земли и бросил в козла. Гордей крикнул:
– Перестань! Нельзя бить!
– Н-ну, – удивился Никита. – А тебе жалко, что ль? Это ж козлина вонючий!
– Нельзя! Он хороший. И за то, что бьешь, – в тюрьму. Я по телевизору видел.
Никита поухмылялся, но больше в козла ничем не кидал. Да и обзывать перестал. А Гордей на другой день принес козлу печеньку, и тот ее жадно съел. Потом сказал:
– М-ме-е-е!
– Вкусная?
– Ммме-е-е-е!
– Я завтра еще принесу…
Странно, но о маме Гордей вспоминал всё реже. Нет, он помнил о ней, но вот так, чтобы хотелось заплакать, не вспоминал.
Козлу он про маму не рассказывал. Расскажет, и, может, не то что надо. Только хуже сделает… Решил: мама приедет и сама всё увидит. И что-нибудь произойдет.
Дни текли однообразно, но быстро. Правда, дождливых становилось всё больше. Эти дни Гордей научился переживать – лежал на кровати, стараясь не шевелиться, чтоб не скрипела сетка, и мечтал, что папу расколдуют, и они все вместе – он, мама и папа – вернутся туда, где жили в то время, которое Гордей не помнил. Запомнил лишь одно – им было там и тогда хорошо…
Иногда приходил большой, хромоногий старик, деда Гена, приносил меду, и они с бабой Таней его медленно ели с чаем. Гордею мед не нравился.
Раза три, а может, на два больше, баба Таня водила его в магазин. Говорила перед этим:
– Мать жива твоя, деньги перевела… Копейки, конечно, но уж чего… Пойдем отоваримся. Не голодом же сидеть.
Выдавала ему хорошие штанишки и рубашку, и они шли в магазин. Баба Таня покупала крупу, консервы, бутылочки, яблоки, которые заставляла Гордея есть – “а то зубы выпадут, а другие не вырастут”, – и чего-нибудь вкусного. Конфет или печенек. Этим вкусненьким Гордей делился с заколдованным папой.
Совсем неожиданно приехала мама. Шумная, помолодевшая.
– Так, собираемся, – стала бегать по домику, – надо на вечерний поезд успеть.
– Что, устроилась? – скрипнула голосом баба Таня, и Гордей сквозь радостную неожиданность появления мамы заметил, что так скрипуче баба Таня с ним не говорила.
– Ага! Такой попался! С довеском согласен взять… Что, четыре года, приживется. Они ж в пять забывают, что раньше было… Посмотрим… Так, – глянула на Гордея, – одевайся живо – автобус через пятнадцать минут! А нам на поезд надо успеть. – И сама стала его одевать.
Быстро попрощалась с бабой Таней, что-то сунула ей в руку и покатила сумки на колесиках. Гордей семенил рядом.
Когда проходили ту улочку, что вела к поляне, Гордей остановился.
– Чего ты? – удивилась мама.
– А папа? – сказал Гордей. – Папа там… Надо папу расколдовать.
– Какой папа еще? Пошли быстрее!
– Нет! – Гордей побежал по улочке.
Козел был на месте. Увидел Гордея и сказал громко, почти пропел:
– М-м-е-е-е!
– Пап, мама приехала! – крикнул Гордей. – Мама! – Обернулся и крикнул маме: – Вот папа, его надо расколдовать и забрать!
Мама бросила сумки, подскочила к Гордею и присела перед ним, больно сжала плечи. Смотрела в глаза своими глазами. Незнакомо смотрела, как чужая.
Потом обняла и зашептала:
– Сыночек… Сыночек ты мой бедненький… Сына…
А потом отстранила от себя и сказала строго:
– Это не папа, это козел простой. Незаколдованный. Папа дома и ждет нас. Понял? Он не козел, его зовут Виталий. Понял? А это просто козел. Животное… Всё, пошли. Опоздаем.
И повела Гордея туда, где лежали сумки.
Гордей пытался понять слова мамы и забыл оглянуться.
Максим Аверин
Одинокий волк
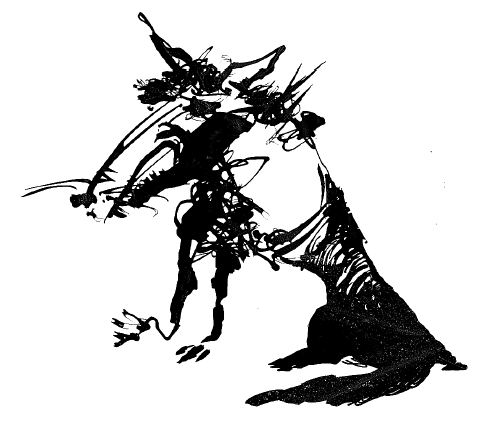
Всё же человек я не спокойный – не могу сидеть на месте! Долго не выдерживаю павильонных съемок, вообще замкнутого пространства, люблю экспедиции. 2004 год. Многосерийный фильм “Карусель”. Режиссер, Вячеслав Никифоров, утвердил меня сразу. Роль мне понравилась. Военный хирург попадает в плен. Чудом спасается, но из-за травмы теряет память. Возможно, кто-то скажет, что сюжет незамысловат: в кино сейчас все кому не лень теряют память, да и ужасами плена мало кого удивишь. И всё же в этом фильме есть что-то особенное. Это тот самый случай, когда я играл не диагноз (амнезия), а сочинял путь человека к себе, возвращение к своей любви, к жизни.
В то время обстановка была нестабильной, поэтому съемочную группу не пустили в Чечню. Съемки проходили сразу в нескольких городах: Москву снимали в Минске, Кавказ – в горах Адлера.
Один из эпизодов должен был сниматься в волчьем логове. Если кто-то считает, что волки похожи на собак, он сильно ошибается. Волки – животные стихийные, хищники вынужденные. Про таких обычно говорят: “Не мы такие – жизнь такая”. Продюсеры предупредили, не волнуйся, мол, всё продумано: будешь сниматься за защитной сеткой, в недоступной для волков зоне. Так оно и было. Только недоступной для волков оказалась съемочная группа, оставшаяся по ту сторону сетки и бросившая в вольер меня. Ох и страху я натерпелся! Мама дорогая! Вот вам, ребята, о зверятах.
За несколько недель до встречи со зверушками весь мой игровой костюм привезли на знакомство к хищникам. Так сказать, посмотреть меню. Труппа моих будущих зубастых партнеров состояла из двух взрослых волчиц и четырех волчат – милых малышей, беззаботно резвящихся под теплым адлерским солнцем, но не спускающих с тебя глаз. Взгляд у них особенный, тяжелый. Волки ловят каждый твой жест: а вдруг ты враг? Хищник нападает только в том случае, если чувствует опасность. А тут, представьте себе, приехали настоящие бандиты, прикидывающиеся съемочной группой.
Меня отправили на несколько дней раньше – знакомиться с партнерами, налаживать отношения. Сначала всё было замечательно, волчица даже как-то вильнула радостно хвостом. Правда, было непонятно, чему она так радовалась – вряд ли предстоящей творческой работе.
Знакомство начали с прогулки и купания в горной реке. Волчица, звали ее Стеша, охотно дала себя искупать. Процесс ей понравился, девушка даже развеселилась, а я расслабился. Вдруг волчица, ощутив свободу в нашей игре, слегка прикусила меня в области паха (простите за подробности, но она всё же женщина, и ничто женское ей не чуждо). Вроде милая шалость доброй зверушки, а мне уже привиделся скорбный финал.
На съемках с волками всегда присутствовала Аля – девушка неробкого десятка, ох уж она вертела и крутила своими подопечными! Аля тогда сказала мне: “Не вздумай показать животным свой страх! Они это сразу почувствуют и смогут над тобой властвовать”. Думаю про себя, конечно, чего ж тут бояться? Ха! Вот нисколечко не боюсь! Но ездить на съемки буду на всякий случай голодным.
Волков, которые с нами тогда снимались, бросила предыдущая группа, а Аля подобрала, выкупила и выходила их в своем питомнике. Животные отогрелись, но обида на людей осталась. Однажды мы снимали в горах, и одна волчица, снова оказавшись на природе, опьянела от свободы, вырвалась из рук своей благодетельницы и помчалась вдаль. Что это было? Зов инстинкта? Бегство ее было стихийно и страстно, остановить – невозможно. Все мы замерли в ожидании трагедии. (Мы снимали в условиях живой природы, но не дикой, а значит, волчица могла погибнуть.)
Аля закричала вслед убегающей волчице. Закричала отчаянно, страшно, как может кричать человек при надвигающейся катастрофе. В горах эхом разнеслось имя волчицы. И тут произошло чудо: волчица остановилась как вкопанная. Несколько секунд она стояла не шелохнувшись. Что произошло в ее голове? Испугалась неведомого? Черт его знает. Когда волчица обернулась, в ее глазах было что-то такое, что напоминало отчаяние преступника, который, сдавшись, не успел совершить преступление. Что-то было в этом взгляде одинокое.
Ага. Вот тебе на заметку: этот взгляд надо обязательно запомнить – пригодится. В финальных кадрах “Карусели” я использовал это наблюдение. Мой герой возвращается к жизни. Он дома. Рядом его любимая женщина. Он прошел этот путь. Но о чем говорит его взгляд? Где она, эта свобода: в долгом пути к своему дому или же в неведении своего рода и племени? Где хорошо: в том мире или этом?
Евгения Некрасова
Две ненастоящие болгарские сказки
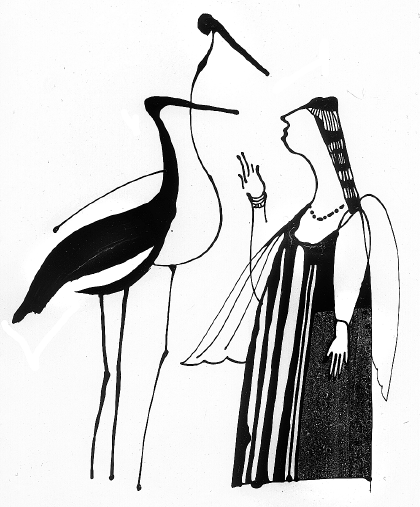
Сказка первая. Лошадиный марш
…и стоило жить,и работать стоило.В.Маяковский. Хорошее отношение к лошадямВ июле, когда звезды совсем прижало к земле, Тодору стало ясно, что его лошадь совсем состарилась и больше не сможет работать. Пенсии кобыле не полагалось, старости для нее не существовало. Тодор выпустил лошадь на улицу, чтобы она доходила: изголодалась и упала где-нибудь замертво. Дальше он собирался погрузить ее тело на повозку, запряженную в трактор, отвезти в поле и закопать. Пока же лошадь ковыряла улицы Кирилова сколотыми копытами и мазала ворота жителей бельмовым глазом. Кобыла не просто ковыляла, а вышагивала, маршировала по грунтовке, высоко поднимая копыта, будто желая превратить свою последнюю прогулку в парад. Спотыкаясь, пошатываясь, но всё же ступала, изредка останавливаясь постоять-пощипать сухих былинок и перевести лошадиный дух.
Кобылу принялись подкармливать то русские, то британские фермеры. Они жили через дом друг от друга и пили вместе недорогое местное вино. Кирилово за последнее десятилетие наполовину заполнилось иностранцами: русскими, а чаще – британцами. Эти нестарые еще приезжие – сорока или чуть больше лет – будто замещали покидающих Кирилово молодых людей. Такая же история происходила во всех окрестных селах. Иностранцы привозили в них всю взвесь молодой жизни – свежие еще, неповявшие браки, расхристанные расставания, романы, измены, вечеринки, современные методы фермерства, вай-фай (впрочем, он был и до них), а также звериные charities[3]. Одна британка содержала на краю соседнего села кошачий приют, а в Елхове снова англичане открыли магазин ношеной одежды, доходы от которой шли на собачий питомник. Не то чтобы местные оказались жестокосердей, чем приезжие, а просто все деревенские мира относились к зверям проще и практичнее, чем городские. А все новоселы Фракийской долины были иностранцами из городов.
Лошадь не кошка и не собака, и ее никто не мог забрать к себе на двор, положить на симпатичную лежанку с напечатанными на ней следами лапок и почесывать за ухом во время смотрения сериалов, но еду ей выносили регулярно. Она держала свой прайд от русских ворот к британским, иногда доходила до расположенного за владениями пасечника Христо поля, где еще не выгорела вся трава. Русские и английские слова часто роились вокруг полинявших ушей лошади, она даже начала понимать их смысл. Они были хорошие, часто ласкательные, жалостливые, всегда возвещающие о главных вещах на свете – еде и питье. Русские слова кобыла сначала полюбила сильнее, они казались почти родными – звучавшими так, если бы болгарские фразы настойчиво проговаривали сквозь частокол дождя. Лошадь ощущала в русской речи, обращенной к ней, сочувствие и жалость. Потом она даже сильнее полюбила английские слова. В них звучали сочувствие и уважение. Из-за последнего кобыле почему-то казалось, что британцы точно будут ей давать еду до самой смерти.
Лошадь ковыляла словно на празднике, на большом параде, хоть ее саму поедали мухи и мошки. Она мечтала упасть и поваляться по траве, почесывая себе спину, как в молодости, но страшно боялась не подняться снова, поэтому не падала, а продолжала свой марш. Между тем на кобылу уже ходила посмотреть Смерть, садилась рядом прямо на сухую траву, глядела, не отрывая костяных дыр, но пока не трогала. Лошадь чувствовала присутствие нежити, нервно дергала облезлым хвостом и кривой шеей, но вышагивала-вышагивала, еще выше задирая копытца и колени. Смерть ухмылялась и отправлялась проверять памятные листки на воротах сельских дворов. Болгары вешали и вешают а-четыре-распечатки с портретами своих умерших на ворота сельских домов, двери подъездов, деревья, автобусные остановки и стенды при кладбищах. Эта традиция называется Вспомен. Она помогает людям помнить о своих усопших и напоминать о них остальным, а Смерти – вести точную статистику своей работе.
Тодор поначалу не обратил на парад своей бывшей лошади внимания, но потом вдруг задумался и решил, что кляча позорит его перед всем селом, клянчя еду у приезжих. Однажды ночью, подговариваемый бутылкой ракии, он вывез из сарая старый жигуль, оставшийся у него еще с тех времен, когда каждую пятницу всё телевидение в стране было только на русском. Тодор давно уже передвигался на фольсвагене, но жигуль не отдавал на металлолом из-за ностальгии. Из Советского Союза в Евросоюз! – так он шутил про себя и свой автомобиль. Когда Тодор поехал на кобылу, она увидела приближающегося хозяина и даже узнала его прежнюю машину, но не кинулась в сторону, а принялась красиво маршировать на месте. Собаки вокруг драли черные горла. Тодор затормозил в метре от лошади, выругался и, возможно, заплакал (не было слышно из-за закрытых советских окон). Лошадь продолжала вышагивать на месте как механическая. Смерть с уважением посмотрела на клячу и погладила капот машины. Там сразу образовалась широкая ржавая полоса. “Жигуль” громко дал задний ход по тоннелю собачьего ора. Кобыла аккуратно промаршировала на обочину и закусила свое новое спасение подгнившей смоквой. Смерть ушла, немного повторяя тонкими ногами лошадиный марш.
Лошадь проходила по Кирилову еще почти месяц. Все ниже поднимались ее коленки и копыта. Все медленней двигались ее доедающие челюсти. Несмотря на постоянное кормление, кобыла стремительно теряла вес. Кожа тащилась за ее скелетом, как жеребенок за матерью. Старость наматывала вокруг лошади свои железные круги. Смерть всегда говорила, что ее зря обвиняют. “Вопросы к старости, болезням и убийцам (вольным и невольным)”, – кричала она никому-неслышная и объясняла, что она только доделывает, подбирает за этой тройкой. Кобыла не могла больше маршировать. Она лежала у русских ворот и пила прямо из ведра, которое держала у лошадиного рта Анна из Москвы. Когда женщину позвали из дома и она ушла, оставив ведро с водой, к лошади приблизилась Смерть. Кобыла поняла, кто перед ней, печально профырчала и положила острую морду на колючую землю.
Вместо того чтобы вытянуть душу через левое ухо, как это она обычно делала с лошадьми, Смерть быстро подковала кобылу медью с клеймом в один лысый череп. Когда четвертая подкова оказалась на копыте, лошадь встрепенулась, подняла сначала голову, а потом вернулась на ноги. Ее захватил неожиданный, острый прилив сил. Мир, неразличимый прежде левым глазом, и мятый, будто накрытый целлофановым пакетом, – правым, теперь виднелся остро и ярко, как отремонтированный. Кобыла впервые в жизни различила красный, который обволакивал старое пластиковое ведро, и удивилась ему. Смерть видела всё не черно-белым, а в точно таком же, как и большинство людей, цвете, значит, и ее лошадь должна была смотреть так же. У кобылы не осталось теперь кожи, шерсти и даже глаз, она глядела теперь пустыми глазницами и серела одним лишь острым, прочным скелетом. Смерть накинула на нее седло, упряжку и забралась сверху. Со Смертью на хребте, невидимая для жителей села, лошадь бойко помаршировала по дороге. Оба радовались: кобыла новой судьбе, а Смерть тому, что ей не нужно больше таскаться пешком по Фракийской долине.
Тело той кобылы так и не обнаружили, и нечего было закапывать Тодору.
Лошадиный марш
Цок-цок-цок-цок,Смерть приселаНа хвосток,Смерть устроит кровосток.(Я тоже люблю эту группу,Особенно песню про холодец,Но сейчас у меня не русская,а болгарская сказка.)Но откуда кровь у этой лошади?Пойдем лучше на концерт на площади.Цок-цок-цок-цок,Отыщи-пойди истокЖизни.А я скажу вместо лошади(так как лошади не разговаривают):он – в смерти.Сказка вторая. Гости-аисты
никто не бросает домпока тот не начнет шептатьзадыхаясь тебе в ухоуходи,беги от меня сейчас жея не знаю, во что превратилсяно я знаю, что где угодно,безопаснее, чем здесь.Варсан Шайр. Дом[4]Этой весной аисты поспешили – прилетели в Кирилово в марте. Вероятно, их сбило с толку толстое солнце, залившее желтым маслом всю Ямбольскую область. Птицы широкими распятиями парили над полями, выискивая себе подходящий столб. Аисты давно уже заводили семьи на этих высоких столбах, на которых электрики устанавливали специальные подставки для массивных, похожих на огромные шапки гнезд. Сначала, как обычно, прилетал самец, устраивал гнездо, а через несколько дней появлялась самка. В этот раз, как только птицы заселили столбы своими белыми молодыми семьями, Кирилово стиснули морозы. Воздух сделался колючим, поля покрылись холодным стеклом. Солнце висело тут же, но не могло выдрать село и окрестности из морозных челюстей. Аисты втащили головы в плечи, засели парами в своих высоких квартирах, вжавшись друг в друга. Холодные ветра, шагающие по электрическим проводам, лезвиями резали птичьи макушки. Аисты сильнее вжимали шеи, щурили глаза и бились в мелкой дрожи, обнимаясь. Задача создания потомства забылась, надо было выживать. Мороз не прекращался. Перья птиц покрылись ледяной коркой, сковывающей крылья. Аисты не могли летать и добывать пищу. Из последних сил они спустились со столбов в поля и пытались прятаться от морозных ветров в низинах и лысых кустарниках и пешеходами найти хоть что-нибудь съедобное. Еды попадалось совсем мало, а по ночам морозные ветры у земли рубили еще непереносимей, чем у проводов. Аисты теряли силы, неподвижно сидели парами в полях, прижавшись друг к другу и коченея.











