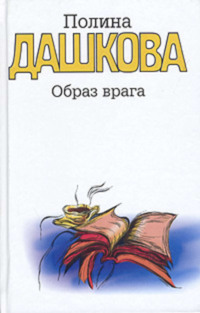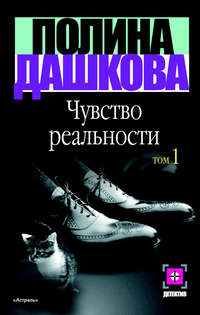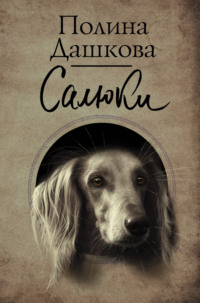Полная версия
Приз
– Нет, милый, тебе не стоит сейчас пить холодное, ты охрипнешь.
Это было произнесено с материнской нежностью.
Григорьев поднял глаза. Через зал шла пара. Полный лысый пожилой господин в светлом костюме и худенький юноша в черных обтягивающих джинсах, в серебристой шелковой сорочке. Мягкие светлые волосы зачесаны назад и стянуты в хвост на затылке. Лицо бледное, тонкое, кожа прозрачная и чистая, как у девушки, глаза аккуратно подведены, алый пухлый рот приоткрыт в застенчивой сладкой улыбке. Довольно было одного взгляда на эту пару, чтобы понять: хитрый ледяной господин Рейч вляпался очень серьезно на старости лет.
– Рики, ты уверен, что не хочешь ничего съесть?
– Отстань. Я сыт.
– Рики, детка, что не так? Что?
– Я просил тебя не надевать этот идиотский костюм, ты в нем похож на провинциального учителя.
Они уселись за соседний столик. Зеленые близорукие глаза Рейча скользнули по лицу Григорьева.
– Хочу икры, – задумчиво произнес Рики.
– Но здесь не бывает. После выступления мы поужинаем в ресторане.
– Я хочу сейчас. Почему так мало народу? Ты обещал хорошую рекламу.
Григорьев искренне пожалел Рейча. Старый авантюрист, безусловно, узнал его, но не смел отвлечься от своего капризного Рики.
– Простите, – улыбнулся Андрей Евгеньевич, – мне кажется, настоящая литература не нуждается в рекламе. Я приехал из Америки, специально, чтобы посмотреть на последнего и единственного гения немецкого авангарда. Надеюсь, вы дадите мне автограф?
Рики помахал ресницами. Рейч благодарно улыбнулся и подмигнул.
– Добрый вечер, господин Григорьефф. Рад вас видеть.
– О, это твой знакомый? – слегка удивился Рики.
– Да. Это американец русского происхождения, граф, кажется?
– Князь, – серьезно уточнил Григорьев.
– Настоящий? – Рики порозовел от удовольствия. – Чистокровный русский князь? Да, это сразу видно! Такое породистое лицо. Очень, очень рад познакомиться.
– Ну вот. – Рейч погладил своего крошку по щеке. – Я обещал тебе русского аристократа на твоем выступлении – вот он. Я обещал икру – будет икра. Но позже.
– Неужели вы купили мою книгу в Америке? – спросил Рики.
– Конечно, – легкомысленно соврал Григорьев, – я нашел ее в маленькой книжной лавке в Нью-Йорке, в Гринвич-вилледж, и проглотил буквально за сутки. Не могу похвастать, что свободно владею немецким. Но главное я понял: передо мной яркий, талантливый писатель.
Григорьев покосился на Рейча, спрашивая взглядом, не перебарщивает ли он. Бедняга улыбался, благодарно и счастливо. Настроение капризули Рики заметно улучшилось.
Глава седьмая
Евгений Николаевич Рязанцев плавал в небольшом бассейне у себя на участке, от одной кафельной стенки до другой. Вода была теплой и пахла хлоркой. Евгению Николаевичу было скучно. Он знал, что ровно через десять минут откроется задняя калитка и по дорожке к дому, как тень, проскользнет фигура его жены Галины Дмитриевны, в длинной юбке, в платке на голове. Они увидят друг друга, но оба сделают вид, что не заметили. Поздороваются, только если столкнуться лицом к лицу в доме. Завтракать будут отдельно.
Два года назад Евгений Николаевич забрал жену из частной психиатрической клиники. Врачи уверяли, что она практически здорова. Он с ними не мог согласиться.
Не реже трех раз в неделю Галина Дмитриевна ходила в ближайшую сельскую церковь на службу, вместе с деревенскими старухами исповедалась, причащалась. Главным человеком в ее жизни стал батюшка, настоятель храма, пухлый низкорослый старик с колючими глазами и седеньким хилым хвостиком, стянутым аптечной резинкой.
Евгений Николаевич не считал себя атеистом, мог иногда потихоньку перекреститься, во время Великого поста старался не есть мяса и яиц, на Пасху и в Рождество заходил в храм, ставил свечки. Но сейчас церковные ритуалы и тот особый образ жизни, который вела его жена и ее новые знакомые, вызывали у него кислую сонную тоску. Что может быть общего между огромным, бесконечным, сложным понятием веры в Бога и этими бабьими платочками, длинными бесформенными юбками, хлебными крошками в бороде у батюшки, диетической дисциплиной постов?
Галина Дмитриевна ничего не читала, кроме специальной православной литературы, в ее комнате работало радио, настроенное на одну из православных радиостанций, телевизор она вообще никогда не смотрела. Молилась перед завтраком, обедом и ужином. Прежде чем лечь спать, не менее получаса стояла на коленях, отбивала поклоны. Евгению Николаевичу было трудно с ней разговаривать, даже на самые мелкие, бытовые темы. Они категорически не понимали друг друга. Она говорила страшно тихо, так, что приходилось напрягаться, чтобы расслышать. Она никогда не возражала, не упрекала ни в чем, но рядом с ней он чувствовал себя хронически виноватым, греховным, грубым существом.
В очередной раз вынырнув из воды, он увидел, как Галина мелко семенит по тропинке, хотел опять нырнуть, но в доме хлопнула дверь. Появился начальник службы безопасности Егорыч, в руке у него был телефон. Две фигуры двигались навстречу друг другу. Галина Дмитриевна шла, низко опустив голову, обмотанную темным старушечьим платком, и наверняка бормотала про себя молитву. Егорыч, в небесно-голубых джинсах и белой футболке, несся энергичным галопом, при этом глядел на бассейн и уже открыл рот, чтобы что-то крикнуть Рязанцеву.
«Сейчас врежутся!» – отметил про себя Евгений Николаевич.
Егорыч, бывший полковник КГБ, аккуратно следовал бандитско-номенклатурной моде. Он тоже стал православным, постился и любил поговорить о том, как это в принципе полезно для здоровья. К Галине Дмитриевне относился с трепетом и почтением, даже побаивался ее, называл «женщиной божественной, продвинутой в смысле духовности».
Галина шла, низко опустив голову и глядя под ноги вовсе не потому, что боялась споткнуться, просто у нее выработались новые привычки, новая пластика и мимика. Она даже как-то вся съежилась, стала ниже ростом от своего смирения.
Рязанцев мог бы окликнуть жену или дать знак Егорычу, чтобы тот посторонился. Но ему вдруг стало весело и захотелось, чтобы они столкнулись, чтобы энергичный, жилистый начальник охраны сшиб божественную женщину с ног. Он представил, как забавно станет извиняться Егорыч, как Галина примется отряхивать юбку и поправлять платок. Хоть что-то случится, хоть какая-то мелочь возмутит нудное течение его домашней жизни.
В последний момент Галина подняла голову и отступила.
– Доброе утро, Егорыч, – произнесла она со своей обычной смиренной улыбкой.
– Доброе, доброе, – небрежно, без всякого почтения, откликнулся Егорыч, подхватил полотенце, валявшееся в плетеном кресле, и протянул Рязанцеву телефон.
Он услышал женский голос с мягким, едва уловимым акцентом.
– Здравствуйте, Евгений Николаевич. Это Мери Григ.
– Маша, вы уже в Москве?
Он знал, что она должна прилететь, но забыл, когда именно. Ее приезд означал, что пора выходить из долгой спячки, начинать жить и действовать. По сути, это его последний шанс. Если сейчас он не соберется, не взбодрится, то американцы заменят его кем-нибудь другим. И будут правы. Зачем вкладывать деньги в политика, который утопает в хронической депрессии, постоянно болеет, ноет и спит на ходу?
Рязанцев с телефоном в руке неуклюже вылез из бассейна. Мери Григ готова была явиться к нему прямо сегодня, часа через полтора. Ему хотелось спать. Жара действовала убийственно. День только начался, а он уже устал. Хотелось забиться в нору, в свой кабинет, пить ледяную воду, валяться на диване и смотреть старые американские мультики.
«А может, правда, стоит послать все к черту? Отказаться от встречи с мисс Григ, от завтрашней пресс-конференции, и прямо сейчас, в самом начале пиарошной кампании по объединению оппозиционных партий, умотать в Испанию или на юг Франции?»
Два года назад у Рязанцева случилось несчастье. История была грязная, запутанная и весьма оскорбительная для Евгения Николаевича. При расследовании двух убийств на свет Божий вылезла семейная грязь, которую потом пришлось еще долго и мучительно разгребать. Это пожрало столько драгоценной жизненной энергии, что Евгений Николаевич стал чувствовать себя никчемным существом, вроде яблочного огрызка. В итоге глава партии «Свобода выбора» впал в тяжелую депрессию и готов был подать в отставку. От этого глупого шага его спасла Мери Григ. Она в тот тяжелый период выполняла функции его пресс-секретаря, оградила от назойливого внимания прессы, вывела из душевного кризиса, сумела даже примирить с тихим и мучительным присутствием в его жизни жены Галины.
Тогда, два года назад, Мери Григ улетела домой, в Нью-Йорк, оставив его здоровым, сильным и в гармонии с самим собой. Она честно выполнила задание своего руководства из ЦРУ. Эта организация вложила в партию «Свобода выбора» большие деньги и не была заинтересована, чтобы Рязанцев сломался.
Он не сломался тогда, но был почти сломлен сейчас, хотя никаких личных драм не переживал. Просто устал, понял, что никто на свете его не любит и сам он никого не любит. Вся его карьера – блеф. И семья тоже блеф. Исчезни он с политической сцены или умри прямо завтра, никому даже грустно не станет. Смиренная жена закажет отпевание, поплачет по-христиански, помолится за упокой его грешной души. Сыновья прилетят из Англии, прольют несколько скупых мужских слезинок и станут жить дальше. Вот американцы, пожалуй, будут искренне огорчены. Он дорого им обошелся. Разумные хозяева заботятся о своей собственности. Поэтому они опять прислали к нему Мери Григ.
– Евгений Николаевич, я не поняла, вы хотите, чтобы я приехала к вам домой, или лучше встретиться в городе, пообедать где-нибудь?
«Лучше, если вы все оставите меня в покое!» – прохныкал про себя Рязанцев и, кашлянув, произнес в трубку:
– Приезжайте ко мне, Маша. Обедать в Москве в такую жару не хочется, а я все-таки живу за городом, здесь воздух чище.
– Хорошо, как скажете. До встречи.
Рязанцев вернул Егорычу телефон. Даже сквозь пелену своего кислого равнодушия он заметил, как пристально и напряженно смотрит на него начальник охраны.
– Что ты, Егорыч?
– Ничего. Американка во сколько явится?
– Часа через два. Да в чем дело? Почему ты так напрягся?
– Нет, все в порядке. Просто не нравится она мне.
– Чем же? – удивленно улыбнулся Рязанцев.
– Да так. Очень умная. Лезет, куда не просят.
– Брось, Егорыч, ее два года здесь не было. Сейчас начинается кампания по объединению партий, и хорошо, что прислали ее, а не кого-то другого.
– Ну, не знаю, не знаю. Лучше бы они вообще никого не присылали. Они вас контролируют, как будто вы больной или не в своем уме. Они во все лезут, учат нас, русских, жить. У них своих проблем хватает, а наши мы уж сами как-нибудь решим.
Рязанцев терпеть не мог, когда хитрый Егорыч прикидывался невинным валенком. Начальник охраны прекрасно знал, что американцы вкладывают в партию «Свобода выбора» большие деньги и имеют полное право присылать своих экспертов.
– Ладно, хватит. Тут зрителей нет, так что не устраивай спектаклей, – сердито одернул его Рязанцев, – хочешь сказать что-то по делу, говори.
– Хавченко – их работа, – чуть слышно пробормотал Егорыч, – никто ничего не докажет, но это их работа. А если уж совсем честно, Хача убрали по наводке этой вашей белобрысой американки.
Хавченко по прозвищу Хач руководил партийным пресс-центром. Рязанцев терпеть его не мог за хамство и бандитские повадки. Американские деньги, и вообще все чужие деньги, прилипали к его рукам, словно эти пухлые розовые ладошки были смазаны клеем. Он воровал много и нагло, строил себе особняки, покупал джипы и «Мерседесы», носил бриллиантовые запонки, менял девок, плохо говорил по-русски, никакими иными языками не владел.
Два года назад Хач вошел в число подозреваемых в убийстве Вики Кравцовой и Томаса Бриттена. Американская сторона считала, что он мог быть заказчиком. Бриттен незадолго до смерти обращал внимание своего руководства на то, что через Хавченко деньги уходят к бандитам. Мери Григ не успела заняться проверкой. По причинам, Евгению Николаевичу до сих пор неизвестным, она улетела в Нью-Йорк значительно раньше, чем предполагалось. Однако с Хавченко дотошная леди побеседовала, и он произвел нее неприятное впечатление. Она сказала, что насчет денег пока не знает, но в любом случае такому человеку неприлично возглавлять партийный пресс-центр.
Хача убили в июне прошлого года. Это было классическое заказное убийство. Снайпер прострелил ему голову, когда он шел от ресторана к машине. Исполнителей и заказчиков так и не нашли. Для Рязанцева и его близкого окружения одной из главных версий оставалась та, которую условно обозначили как «американскую». Разумеется, ЦРУ и международный концерн «Парадиз» в лице господина Хогана не нанимали снайпера, чтобы расправиться с Хачем. Они просто разработали новую систему финансирования партии «Свобода выбора», при которой жулик уже не имел прямого бесконтрольного допуска к деньгам.
Хач так привык решать свои финансовые проблемы за чужой счет, что не сразу сориентировался в ситуации. А когда понял, что происходит, не сумел осознать и поверить, что к американской кормушке его теперь не пускают. Между тем его товарищи и покровители не желали терпеливо ждать, особенно когда речь шла о деньгах. Они привыкли регулярно получать дань от Хача. А он стал скуп. Время шло. Росли долги, товарищи Хача сердились. В итоге у кого-то из них сдали нервы.
Но возможно, Хач пал жертвой очередной эпидемии криминальных разборок и заказных убийств. Американцы с их деньгами вообще не имели к этому отношения.
– Ты вроде бы собирался сегодня в тренажерный зал, – напомнил Рязанцев Егорычу, когда они поднимались на крыльцо.
– А? Нет, в такую жару не охота.
– Там же кондиционеры. Поезжай, я тебя отпускаю на целый день.
Евгению Николаевичу вовсе не хотелось, чтобы начальник охраны вертелся рядом, когда они будут общаться с Мери Григ. Он сам пока толком не понимал, почему.
– Мне тут надо кое-чем заняться, и вообще, не время сейчас.
– Если ты собираешься слушать, о чем мы будем беседовать с американкой, я тебя сразу предупреждаю: нет! – Рязанцев постарался сказать это как можно жестче. Все-таки он здесь был главным, а не Егорыч.
– Я останусь, – отчеканил Егорыч, пристально глядя в глаза партийному лидеру, – пока еще я несу ответственность за вашу безопасность, а потому останусь.
– Очень интересно. – Рязанцев туже затянул пояс легкого халата и уселся на диван. – Какое отношение имеет моя безопасность к приезду Мери Григ?
– Самое прямое.
Егорыч стоял над ним, широко расставив ноги.
– Ты с ума сошел? – вкрадчиво спросил Рязанцев и взглянул на него снизу вверх.
– Я в своем уме. – Егорыч нагло, упорно смотрел в глаза Евгению Николаевичу. – Вы бы лучше побеспокоились о собственном здоровье.
– Что?!
– Что слышали.
– Так. – Рязанцев резко закинул ногу на ногу, оголив бугристое волосатое колено, и попытался придать своему лицу максимально спокойное и снисходительное выражение. – На тебя, Егорыч, жара действует очень плохо. Ты несешь какую-то ересь. Успокойся и попробуй сформулировать максимально четко, что ты имеешь мне сообщить.
Едва заметная усмешка змейкой проскользнула по тонким красным губам Егорыча. Он продолжал пялиться в глаза Рязанцеву. Взгляд сверху вниз был неприятен. Евгений Николаевич почувствовал себя диссидентом застойных времен на допросе в пятом отделе КГБ.
– Я имею вам сообщить, – саркастически передразнил его Егорыч, – что Мери Григ не только профессиональный психолог. Она еще и офицер ЦРУ. Их там обучают таким гадостям, которые вам даже в кошмарных снах не привидятся. Она будет с вами мило беседовать, и со стороны никто ничего не заметит. Да и вы сами вряд ли почувствуете. Она вас обработает так, что вы превратитесь в марионетку, в зомби.
– Зачем? – быстро, деловито спросил Рязанцев прежде, чем до него дошла суть услышанного.
– Затем, что, если вы возглавите объединенную оппозицию, вы должны будете полностью, безоговорочно подчиняться их воле. А если вы окажетесь за бортом, то в дальнейшем можете стать для них опасным свидетелем. Вдруг вас кто-то перекупит или припугнет, и вы расскажете, что столько лет работали на них? Сейчас такой момент, что им надо усилить контроль над вами, как вы не понимаете?
Егорыч говорил быстро, хрипло, с придыханием. Евгению Николаевич стало одновременно и страшно и смешно. Бывший полковник оказался отвратительным актером. Речь его звучала фальшиво, пафос отдавал мыльным душком. Егорыч прекрасно знал, какую порет чушь, но не испытывал ни малейшей неловкости.
– Ты считаешь меня идиотом? Ты врешь, как наглядная агитация брежневских времен. И не краснеешь. К чему бы это? Ладно, я устал от тебя. Если не можешь толком объяснить, чего надо, уматывай. Все, свободен.
– Я не вру, – невозмутимо возразил Егорыч, – возможно, я преувеличиваю, не совсем точно формулирую. Американка явилась сюда по вашу душу. Она будет вас обрабатывать. Вы устали. Но не от меня, а от себя самого. Вы сейчас в таком состоянии, что из вас можно веревки вить.
– Чем ты и занимаешься, – вздохнул Рязанцев, – у тебя какая-то своя игра, свои интересы. Мери Григ тебе мешает. Либо ты выкладываешь мне все по-честному, либо пошел вон!
Это было произнесено вяло и неубедительно. Кураж, вспыхнувший на минуту, тихо угас. Рязанцеву опять стало скучно, челюсти свело зевотой. Человек, который хамит не по природной склонности, а от бессилия, выглядит жалким. Евгений Николаевич был устроен достаточно тонко, чтобы чувствовать такие вещи, и озноб неловкости, который изводил его в последнее время, продрал как-то особенно мощно. Начальник охраны продолжал возвышаться над ним бело-голубой глыбой и нагло, неотрывно сверлил его взглядом. Рязанцев понимал, что, если сейчас плюнуть, позволить ему остаться, в дальнейшем он всегда будет диктовать ему свою волю. Надо заставить его убраться отсюда, во что бы то ни стало, хотя лень, и скучно.
– Ну что застыл? – спросил он, не сдерживая зевок. – Ты можешь идти, Егорыч. Свободен.
Бывший полковник больше не произнес ни слова, развернулся, направился к двери, хлопнул ею так, что зазвенело стекло. Самое неприятное, что он так и не ответил, уедет ли, останется ли, и что вообще собирается делать дальше.
* * *– Меня здесь скоро замочат, – с тоской произнес рецидивист Булька и колупнул грязным ногтем краску на столе. – Я не убивал этого вашего писателя. А меня здесь точно замочат.
– Кто и почему? – спросила Зинаида Ивановна, вглядываясь в мутные несчастные глаза подозреваемого.
– В камеру психа посадили. Он на меня смотрит. Его посадили специально. Он меня замочит, но сделает так, будто я сам. Понимаете?
– Не совсем, – честно призналась Лиховцева.
Булька обшарил глазами маленькую комнату для допросов, поднял голову, оглянулся и уперся взглядом в Арсеньева, который стоял у него за спиной.
– Пусть она выйдет, – прошептал он, мучительно морщась, – я не могу при ней. Пусть выйдет.
Такое повторялось почти на каждом допросе. Булька не мог говорить при следователе Лиховцевой. Она, по его словам, была ужасно похожа на врачиху из диспансера, где он однажды проходил лечение от наркотической зависимости, и вызывала целую бурю тяжких воспоминаний. В тюрьме ему пришлось пережить несколько мучительных «ломок», он чуть не погиб. В итоге почти вылечился от наркомании, правда, сам пока не мог поверить в это.
Поскольку Булька оставался практически единственным источником информации по делу об убийстве писателя Драконова, приходилось считаться с его желаниями.
Всякий раз, когда он просил Зюзю выйти, он сообщал Арсеньеву какую-нибудь новую мелкую подробность. Иногда казалось, что он вот-вот признается если не в убийстве, то в чем-то еще, что существенно продвинет расследование. Он явно знал больше, чем говорил, однако кто-то контролировал его, держал на коротком поводке. Вполне возможно, с ним даже была заключена сделка. Ему обещали покровительство и комфортное пребывание на зоне, если он возьмет на себя убийство, которого не совершал.
Впрочем, мог работать другой механизм. Куняев действительно ограбил и убил писателя Драконова, но не один. У него были сообщники. И все это время через тюремную почту шел торг. Они пытались заставить его молчать и брать все на себя одного. Он выдвигал какие-то свои требования. В принципе, это могло продолжаться бесконечно.
Почти сразу после ареста в камеру к Бульке подсадили осведомителя. Это был человек пожилой, опытный. Ему удавалось раскалывать куда более серьезных преступников. Куняев легко пошел на контакт, стал откровенен, много возбужденно говорил, плакал, повторял, что влип, запутался и теперь жизнь его кончена. Однако на главный вопрос – убил, или нет, – информатор ответа не получил. Булька уверял, что не помнит, был как в тумане и очень хотел денег. Куняев любил деньги. Информатору пришлось раз десять выслушать трогательную историю этой неразделенной любви.
Денег Бульке хотелось даже больше, чем наркотиков. Очередной порции «дури» требовало его тело. Денег жаждала душа. Купюры для него были не средством, а целью. Он не мечтал о вещах, которые можно купить, о путешествиях, в которые можно отправиться. Он думал о деньгах, как о символе абсолютного счастья, и относился к ним настолько трепетно, что ни разу не назвал «капустой», «бабками», «гринами».
Каким-то образом он узнал, что писатель, его сосед, должен получить много денег, и тут же ясно представил тощего Драконова с седым хвостиком, в кожаных брюках. Портфель в руке старика зазывно сверкал пряжками, пульсировал и дышал, одушевленный своим волшебным содержимым. Толстые пачки долларов тревожно трепетали и перешептывались. Они рвались на волю, им было душно в портфеле из грубой свиной кожи. Отнять у противного старика деньги казалось сказочным подвигом, все равно что вырвать нежную красавицу из лап чудовища.
– Да, – соглашался осведомитель, – чудовище не жалко. Можно дубиной по башке, правда?
– Жалко! Очень даже! – Булька всхлипывал, шмыгал носом, размазывал кулаками слезы. – Я муху прихлопнуть не в состоянии. Как представлю, что она тоже хочет жить, – отпускаю. В деревню с мамой ездили, там хозяин головы курочкам рубил. Мне так стало плохо, так страшно, будто я тоже курочка.
В общем, Куняев уходил от главной темы, и получалось, что информатор зря тратил на него время и душевные силы.
Всякий раз, когда подозреваемый просился на допрос, возникала надежда узнать нечто новое, но почти никогда она не оправдывалась. Булька ныл, клянчил сигареты, погружался в мучительные воспоминания о месяце, проведенном в диспансере, просил Зинаиду Ивановну выйти.
Разговаривать с Куняевым было трудно. Зюзя охотно оставляла своего подследственного наедине с Арсеньевым.
– Допустим, я возьму на себя это убийство. Вы меня на следственный эксперемент повезете? – прошептал Булька, когда за Лиховцевой закрылась дверь.
– Что значит – допустим, возьмешь на себя? Ты убивал или нет?
– Не знаю, – Булька обхватил ладонями свою маленькую бритую голову и облизнул губы, – я был под кайфом. Я ни хрена не помню.
– Ладно, – смиренно кивнул Арсеньев, – давай вспоминать вместе. Начнем с того, что ты до этого людей не убивал. Грабил, да. Было дело. Но грабил ты ларьки и машины. Это ведь совсем разные вещи. Согласен?
– Еще бы, – криво усмехнулся Куняев, – тем более, этого старика я, в принципе, знал. Не просто человек. Знакомый.
– А может, именно потому, что знакомый, ты и решил убить, а? Кстати, ты не вспомнил, кто тебе сказал, что Лев Абрамович должен получить большие деньги?
– В «Килечке» говорили.
«Килькой» называлось кафе, в котором Куняев Борис Петрович числился экспедитором. Там лежала его трудовая книжка, там он проводил много времени, грузил ящики с пивом и продуктами, подменял то уборщицу, то судомойку, просто болтался на кухне и в подсобке. Писатель Драконов бывал в этом кафе довольно часто. Оно находилось в квартале от его дома. Писатель приходил иногда пообедать, иногда только выпить чашку кофе и рюмку коньяку.
Арсеньев успел побывать в «Кильке» уже несколько раз, беседовал с официантами, узнал, что покойный любил рыбную солянку, судака в кляре, мясо ел редко и если заказывал мясные блюда, то предпочитал мягкую постную свинину.
– А кто конкретно говорил о деньгах писателя?
– Не помню! – жалобно простонал Булька.
Саня чувствовал, что он врет. Но не ему, майору, а прежде всего самому себе. Что-то все-таки застряло в его мутной башке, какая-то информация, важная и опасная, сидела в мозгах, как заноза. Он хотел сказать, но не мог. Или мог, но не хотел.
– Слушай, а почему ты так боишься следственного эксперимента? – внезапно спросил Арсеньев.
– Стыдно. Во дворе все меня знают, будут смотреть, обсуждать. Потом на маму пальцами начнут показывать.