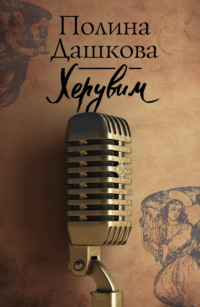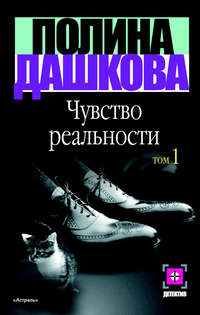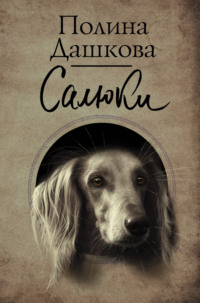Полная версия
Приз
Риторические упражнения помогали Шаме справляться с дурным настроением не хуже, чем песенка про лютики. Он плохо учился в школе и в институте, с трудом мог осилить более двух страниц текста, не отвлекаясь. Историю Шама знал по голливудскому кино. Литературу и философию – по хлестким цитатам и крылатым выражениям, которые употреблялись в телевизионных ток-шоу. Собственные рассуждения о правильном и неправильном устройстве общества казались ему абсолютно свежими и оригинальными. Что касается Никколо Макиавелли, то имя это он слышал от дяди-генерала, а тот, в свою очередь, от Юрия Андропова. А слово «рефлексия» ему просто нравилось, но он не понимал, что оно значит, поскольку не имел привычки заглядывать в толковые словари.
Шама был девственно, стерильно необразован, однако это не мешало ему быть умным, бодрым и хитрым. В определенном смысле это даже помогало. Чем больше человек знает, тем сильней сомневается в своей компетентности и в своей правоте.
Шама не ведал сомнений. Шама был всесилен и очень умен, прежде всего потому, что никогда не оставлял за собой трупов с пулевыми ранениями, не возвращался туда, где наследил, и свои социально-философские теории озвучивал только в узком кругу единомышленников, которые учились еще хуже, чем он, и слушали его, не перебивая.
Он любил, когда его слушают, когда на него смотрят. Еще в раннем детстве ничто так не оскорбляло Шаму, как равнодушные, скользящие мимо взгляды. Если его не замечали, он бесился, все в нем кипело, бурлило, кровь приливала к лицу, кулаки сжимались. Ему хотелось убить тех, кто на него не смотрел, кто пренебрегал им. Желание впечатлять оставалось единственной его слабостью и неутолимой страстью. Всегда, при любых обстоятельствах, вопреки здравому смыслу, он не забывал любоваться собой и работать на публику, даже если эта публика состояла из одного зрителя.
То, что мальчик, наткнувшийся в кустах на мертвого бомжа, мгновенно узнал Шамана, было важно. Среди всех бурных событий прошедшей ночи искреннее, удивленное восклицание «ВЫ?!» оставило в душе Шамы приятный, полезный для здоровья след.
Чем ближе он подплывал к маленькому песчаному пляжу, тем гуще был дым и ярче огненные блики. Языки пламени отражались в реке, расходились ровными волнами от катера. Это выглядело классно, как в кино. Помня о коварстве угарного газа, он прихватил с собой респиратор, небольшой легкий намордник, который мог временно защитить от вредных воздушных примесей. Такими намордниками он и его товарищи пользовались, когда приходилось испытывать на бомжах-вонючках новые виды газового оружия.
Наконец он причалил к пляжу, привязал катер к столбу, оставшемуся от старого забора. Следовало спешить. Вокруг пляжа было несколько сухих деревьев, они могли в любой момент вспыхнуть и рухнуть. Шаман стал ориентироваться по следам. Поскольку кроме него на этом пляже никого не было, оставалось просто пройти до того места, где он раздевался. Кольцо могло лежать только там. Скорее всего, оно выпало из кармана, когда он натягивал джинсы.
На ровной, бархатной поверхности песка он увидел четкие отпечатки подошв своих кроссовок и босых ног, заметил глубокие крупные вмятины там, где раздевался и оставлял джинсы. Опустившись на колени, он принялся шарить по песку, перебирать его, пересыпать в ладонях.
Дым ел глаза, слезы мешали видеть. Темно-серебристый блеск то и дело мерещился ему в гуще влажных песчинок. Он уже понял, что нет перстня, но продолжал искать. Раздражение и злость высушили слезы. На несколько минут зрение его стало острым, как у ночного животного. Рядом с собственными следами он заметил другие, маленькие аккуратные отпечатки босых ног, детских или девичьих. Они были беспорядочно разбросаны по пляжу, чередовались с глубокими вмятинами от локтей и колен, вели к воде, от воды, к тому месту, где он сейчас искал свой перстень, и наконец уходили вправо, к зарослям дикой малины.
– Грачева Василиса Игоревна, – тихо, задумчиво произнес Шаман, поднимаясь на ноги.
Глава третья
Что-то неприятное было в этой маленькой сине-розовой гостинице. Розовые стены, синие диваны и кресла в фойе. Розовое нарумяненное лицо и синие волосы девушки-портье за стойкой. Вазочка с бесплатными карамельками для гостей, тоже розовая, с синими цветочками.
Гостиница называлась «Манхэттен» и находилась напротив вокзала, в центре Франкфурта-на-Майне. От вокзальной площади к финансовому сердцу города, Маленькому Манхэттену, району небоскребов, банков и офисов, шло сразу три улицы, и все арабские. Множество магазинов с коврами и дешевым золотом, мини-маркеты, где любая вещь стоит не дороже трех евро. Фруктовые лавки с горками орехов и штабелями из напудренных кубиков рахат-лукума. Подозрительные темные кофейни, где курят кальяны с дурманящими добавками, и за небольшую плату в отдельных кабинетах можно получить массу разнообразных удовольствий.
Несмотря на близость вокзала и дешевые соблазны, здесь было мало народу. После известных событий 11 сентября немцы бойкотировали арабские районы. Из-за этого бойкота, а также из-за частых полицейских облав, закрывалось множество бизнесов.
Гостиница «Манхэттен» стояла почти пустая. Для людей среднего достатка она была дорогой. Для богатых недостаточно удобной и престижной. Своих четырех звезд она не оправдывала. В общем, так себе отельчик. Зато никаких прослушек, видеокамер и прочих пакостей.
Андрей Евгеньевич Григорьев прилетел вечером из Нью-Йорка, страшно устал от перелета. Он давно не путешествовал, надеялся, что поездка в Германию его взбодрит, но пока получалось наоборот. Все раздражало. Во-первых, ни в аэропорту, ни тем более в самолете нельзя было курить. Во-вторых, пришлось провести в очередях на досмотр в общей сложности часа четыре. Досматривали тщательно, но бестолково. У Григорьева отняли маникюрные ножницы. У пожилой дамы, которая проходила перед ним, – пинцет для бровей. А потом, в международной зоне, какой-то пьяненький русский с нервным смехом рассказывал, что эти лохи даже не заметили у него в кейсе старинный осетинский кинжал, который он за дикие бабки купил на Брайтоне и вывозил без всякого особого разрешения. Он не постеснялся тут же, во фришопе, продемонстрировать свое приобретение.
Франкфурктский аэропорт оглушил Григорьева. Густая толпа вынесла его в гигантский зал прилетов, где крутились и грохотали чемоданами больше ста багажных лент. У стоянки такси выстроилась длинная очередь. В городе открывалась очередная международная ярмарка.
Андрея Евгеньевича не покидало чувство бессмысленности, какой-то любительской театральности затеи с его прилетом в Германию. Ему было слишком много лет, чтобы играть в шпионские игры. Его дело – сидеть дома, в тишайшем уголке Бруклина, цедить информацию из разных источников, копаться в ней, анализировать, делать выводы, выстраивать прогнозы. Однако на этой поездке настаивали сразу два его руководителя: глава русского сектора ЦРУ Билл Макмерфи и генерал ФСБ, глава Управления Глубокого Погружения, Всеволод Сергеевич Кумарин. У каждого были на то свои причины.
Официально Андрей Евгеньевич Григорьев являлся бывшим полковником КГБ, который сбежал к американцам и стал сотрудничать с ЦРУ. Почти двадцать лет назад его на родине приговорили за это к расстрелу. На самом деле полковник Григорьев все эти годы продолжал работать на Россию. То есть на Управление Глубокого Погружения, на загадочную структуру, которая зародилась в недрах КГБ незадолго до развала СССР, до сих пор существовала вполне успешно и умудрялась держать под своим контролем если не всю финансово-политическую систему России, то хотя бы часть этой системы.
После американской катастрофы 11 сентября прошел почти год, но реальные организаторы так и не были обнаружены. Рассматривалось 47 тысяч версий и сигналов с мест, множество психов рвалось взять на себя вину либо выступить в роли свидетелей. Все оказывалось блефом, тупиком. Поисками, прямыми и косвенными, занимались спецслужбы, не только США, но и Европы, и даже России. Каждая очередная порция информации еще больше запутывала расследование.
За два дня до катастрофы между Григорьевым и Макмерфи произошел забавный разговор. Они ужинали в итальянском ресторане в Манхэттене. Макмерфи, ловко наматывая спагетти на вилку, рассуждал о том, что во всех нынешних бедах России виновато КГБ.
– Знаешь, Эндрю, все эти липовые фирмы в оффшорных зонах, открытые КГБ в начале девяностых, они вроде черных дыр втянули в себя Россию. Им за копейки продавали нефть, лес, металл, а они перепродавали это добро по нормальным рыночным ценам. Прибыль получалась колоссальная. Но им все было мало. Они постоянно вели двойную игру. Вычисляли воров и бандитов, но вместо того, чтобы судить и наказывать, шантажировали их, теснились у их воровских кормушек. Они породили монстра под названием российский криминальный капитализм. Им казалось, что, участвуя в отмывании и перекачивании криминального капитала, они контролируют процесс. На самом деле они питали эту черную стихию, и стихия их всосала, как воронка.
– Они питали самих себя, – сказал Григорьев и отправил в рот розовый, нежный кусок лососины.
– Ну да, – радостно кивнул Макмерфи, – я об этом и говорю. Обжорство, как известно, ни к чему хорошему не приводит. В итоге они разрушили собственную структуру. В России сейчас нет реальной силы, способной противостоять криминалу. Заказные убийства, взрывы жилых домов, дикий разгул экстремизма. Кто за этим стоит? Чеченцы? Олигархи? Воровские авторитеты? МВД? ФСБ? Криминальные сообщества? – Макмерфи сердито помотал головой. – Вот что я тебе скажу, Эндрю. В конечном счете не важно, кто за этим стоит. Важно, что остановить это некому. И я не удивлюсь, если завтра в утренних новостях услышу, что взорвали Кремль!
Билли, конечно, был пьян. Но Григорьев все равно на него разозлился. Его тоже слегка повело от кьянти, воображение разыгралось, он вдруг ясно представил кошмарную картину – взрыв Кремля. И неожиданно для самого себя, выпалил:
– А я не удивлюсь, если завтра кто-нибудь взорвет Пентагон и Манхэттен!
В ответ Макмерфи весело рассмеялся.
Этот разговор происходил вечером девятого сентября. Одиннадцатого сентября, почти одновременно, четыре пассажирских самолета врезались в небоскребы на Манхэттене, и в Пентагон. Погибло более семи тысяч человек.
У Билли Макмерфи случился инфаркт. Через неделю Григорьев навестил своего шефа в госпитале ЦРУ. Бледный, отечный, постаревший Билли, едва увидев Андрея Евгеньевича на пороге палаты, приподнялся на подушках и с хриплым пафосом произнес:
– Я тебя ненавижу, Эндрю! Я тебя когда-нибудь убью!
«Может, он меня отправил сюда, во Франкфурт, потому что всерьез решил убить?» – кисло пошутил про себя Григорьев, заполняя гостиничный бланк у стойки портье.
* * *Василиса уже не пыталась позвать на помощь. Звук мотора таял и вскоре совсем исчез. Катер проплыл мимо, вокруг опять ни души. Ни одного живого движения и звука. Только упрямое потрескиванье вспыхивающей древесины, дрожь языков пламени и черное ядовитое дыханье дыма. Сил хватило на то, чтобы приподнять голову, глотнуть воздуха и перевернуться на спину. Надо было встать и идти, но так хотелось полежать еще немного, не двигаясь. Если закрыть глаза, можно представить, что лежишь не в злом горящем лесу, а дома, в своей комнате, на лохматом мягком коврике.
«Я посплю капельку, – сказала себе Василиса, как говорила совсем недавно, когда ночами готовилась к экзаменам, – я только на минуту закрою глаза, а потом встану, и вперед».
Дома, ночами, каждый раз получалось, что спала она долго и ничего не успевала. Не помогали ни кофе, ни чай. От холодного душа знобило, несмотря на жару. Она садилась за стол, сжав ладонями виски, читала вслух главы из учебников, зубрила английские «топики», но уставала шея, она опять укладывалась пузом на коврик, с книжкой, и минут через тридцать шептала: «Я посплю капельку».
У нее была отличная память, мозги работали вполне живо. Многое она понимала и схватывала на лету. Но невозможно за пару месяцев наверстать то, на что требуется два года. В десятом и одиннадцатом классах Василиса практически не училась. Она самоутверждалась. Мучительно решала для себя вопрос: красивая она или нет. Положительный и отрицательный ответы чередовались, как день и ночь.
Если посчитать, сколько времени за эти два года она провела перед зеркалом, получится кошмарная цифра. Если к этой цифре прибавить еще количество часов, проведенных в кафе, в гостях, на улице, в ночных клубах, магазинах молодежной одежды и парфюмерии, то не останется практически ничего. Конечно, в школу она иногда ходила, сидела на уроках, но мысленно плавала в странных и мутных водах своих подростковых томлений.
Жила бы она в грязной холодной коммуналке с родителями-алкоголиками; родилась бы инвалидом или, на худой конец, сильно и безответно влюбилась в какого-нибудь подонка, вероятно, было бы проще договориться с самой собой. У нее имелась бы уважительная причина для страданий. Но уважительной причины не было, а страдать хотелось. Впрочем, иногда, наоборот, хотелось бурно радоваться, скакать и вопить во всю глотку. Тоже просто так, без всякой причины.
Василиса родилась здоровой девочкой, в чистенькой двухкомнатной квартире в центре Москвы. Она была единственным ребенком. Родители очень ее любили, правда, пять лет назад они развелись, она осталась с мамой, но с папой виделась часто, он успешно занимался бизнесом и старался, чтобы девочка ни в чем не нуждалась.
Влюбиться она не могла, ни в подонка, ни в кого-либо вообще. Напряженная внутренняя борьба с ветряными мельницами собственных комплексов создавала в ее душе такой грохот и такое пестрое мелькание, что других людей она практически не слышала и не видела.
В ящике ее письменного стола лежало круглое двустороннее зеркальце, одна его сторона была с пятикратным увеличением. Василиса могла часами разглядывать свое лицо во всех подробностях, и подробности эти ее ужасали, особенно когда она сравнивала собственную физиономию с гладкими, вылизанными компьютерным способом личиками журнальных моделей.
«Господи, ну почему я такая страшная? Зачем мне жить, если я уродина? Зачем учиться, поступать в институт?».
Она находила где-нибудь на подбородке едва заметный прыщик и с яростью набрасывалась на него. Через пятнадцать минут он превращался в большую, воспаленную гадость, с которой нельзя выйти на улицу и тем более идти в школу.
Если совсем нечего было расковырять на лице, агрессия саморазрушения направлялась на килограммы веса. Василиса целеустремленно голодала, доводила себя до голодных обмороков. Но вдруг хотелось чего-нибудь вкусненького. Она украдкой от самой себя съедала булочку, шоколадку, мороженое, сначала немного, потом больше, и уже не могла остановиться. Килограммы возвращались на место. Впрочем, никто, кроме нее, этого не замечал, их было всего полтора-два, не больше, этих килограммов.
Когда она плясала на ночных дискотеках, сидела на уроках или в кафе в компании друзей, невозможно было представить, сколько шума, визга и суеты происходит в ее душе. Тоненькая, ладная, большеглазая девочка, с густыми тяжелыми волосами до пояса. Какие у нее могут быть комплексы?
«Правда, какие комплексы? Ну, их к черту!» – говорила себе Василиса, возвращаясь домой на рассвете после очередной безумной вечеринки, обещая себе, что перепишет, наконец, сочинение, исправит пару по физике. Вместе с учебниками и тетрадями на столе само собой появлялось увеличительное зеркало. Все начиналось сначала. Устав от борьбы, лежа на коврике в своей комнате, Василиса виновато шептала: «Я посплю капельку».
Она засыпала крепко, видела счастливые детские сны и просыпалась другим человеком. Умывшись, глядела в зеркало в ванной и вдруг жутко себе нравилась, начинала громко петь, прыгать, танцевать. Вдохновенно наряжалась, причесывалась, рвалась вон из дома, чтобы срочно кто-нибудь ее, такую красивую, увидел и оценил по достоинству.
Ценители всегда находились. Главным из них в последнее время был некто Герман, шикарный молодой человек, почти вдвое старше нее.
Когда Василиса училась в восьмом классе, он преподавал в ее школе физкультуру. Проработал всего год. Девочки сохли по нему, учительницы приходили в школу надушенные и накрашенные, со свежими парикмахерскими укладками. Он был вкрадчиво любезен с учительницами и благоразумно не обращал ни на кого из учениц внимания. И все-таки Василиса могла поклясться, что уже тогда, в восьмом, он выделял ее, худющую, слегка дикую, из общей стаи вполне зрелых одноклассниц. Он чуть дольше, чем следовало, задерживал на ней взгляд своих узких голубых глаз и, когда страховал ее при прыжке с брусьев или через «козла», обязательно ловил, прикасался сухими горячими лапами, хотя она отлично прыгала и совершенно безопасно приземлялась.
Однажды он застал ее у зеркала в вестибюле. Вокруг никого не было, шел третий урок, Василису отпустили домой, у нее поднялась температура. Физкультурник Герман Борисович внезапно возник у нее за спиной, и несколько секунд они молча смотрели друг на друга в зеркале, а потом он тихо спросил:
– Нравишься себе?
– Естественно! – Василиса щелкнула заколкой и красиво тряхнула волосами.
– Умница, – он склонился чуть ближе и, почти касаясь губами ее уха, прошептал: – Еще пара лет, и по тебе начнут сходить с ума мужики. А тетки при твоем появлении будут хвататься за своих мужей, как в рыночной толпе хватаются за сумки и карманы, опасаясь воровства.
– Это вы к чему, Герман Борисович? – Василиса развернулась, так резко, что ее тяжелые длинные волосы хлестнули его по лицу.
Он отступил и, улыбнувшись по-дурацки, промычал в ответ нечто невнятное.
Ухо и часть щеки, то место, куда он подышал, потом еще долго пылало. Она кожей вспоминала его теплое дыхание, у нее сладко ныло солнечное сплетение и щекотало в носу, как от цветочной пыльцы. Но тогда, у зеркала, в пустом гулком вестибюле, она ничем себя не выдала. Она чувствовала, что стоит поплыть, как плывут от его роскошной мужественной морды и потрясающей фигуры все остальные особи женского пола, и он перестанет выделять ее из общей массы. И еще, она понимала, что Герман, как таковой, не особенно ее интересует. Просто это отличный способ самоутверждения и лекарство от комплексов.
В девятом он уже не преподавал. Он исчез из школы, и никто не знал, куда. Василиса легко и быстро о нем забыла. Но однажды случайно столкнулась с ним на улице.
Был ноябрь, шел мокрый крупный снег, у Василисы промокли ноги и от жестокого насморка болели барабанные перепонки. Ветряные мельницы внутренней борьбы крутили крыльями с невероятной силой.
Герман увидел ее из машины, остановился, предложил подвезти. Машина у него была шикарная: перламутровый, как нутро ракушки, новенький «Ауди», волшебно чистый, несмотря на глубокую слякоть.
С тех пор они стали встречаться довольно часто. Она не могла точно ответить себе на вопрос, зачем. Ей нравилось собираться на эти свидания, носиться по квартире, примерять кофточки, крутиться перед зеркалом, красить губы липким розовым блеском с запахом клубничной жвачки. Нравилось впархивать в его шикарную машину. Нравилось сидеть с ним в каком-нибудь эстетском кафе, где весь дизайн сводится к извивам водопроводных труб и авангардным калякам-малякам на стенах, где орет музыка, взмыленные официанты носятся, обмотанные длинными фартуками цвета хаки. Тут же, в центре зала, повара в колпаках жонглируют пиццей и толстыми лоскутами кровавого мяса, все вокруг шипит, дымит, вопит и пахнет, так же оглушительно, как у нее в душе, когда крутят крыльями бессмысленные ветряные мельницы.
Ей не нравилось, когда он опрокидывал в машине спинки сидений и мокро целовал ее в шею и трогал, трогал своими горячими быстрыми лапами. Ей не нравилось бывать в крошечной квартире, которую он называл офисом.
Однажды, когда они кувыркались в этом самом офисе на кожаном диване, он вдруг вскочил, бросился к балкону и завопил, как сумасшедший: «Быстро, вставай, одевайся!».
Через три минуты Василиса опомнилась на лестничной площадке, двумя этажами выше. Было четыре утра. Она услышала, как внизу открылась дверь, как женский голос произнес: «Привет. Ты здесь? А почему не позвонил?» Дверь быстро захлопнулась, Василиса побежала вниз, чтобы поскорей убраться вон отсюда, домой, но вспомнила, что ее сумочка с деньгами, ключами и мобильным телефоном осталась в квартире.
Пока она размышляла, что делать, дверь опять хлопнула. Явился Герман с ее сумочкой. Заикаясь и не глядя в глаза, сообщил, что сейчас ей нужно ехать домой. Протянул сто рублей на такси. Она не взяла. Он спустился с ней вниз, по дороге бормоча грустную историю о свирепой начальнице, пожилой даме, с которой ему приходится спать, иначе она его выгонит с работы, и он умрет с голоду. Внизу, рядом с его «Ауди», стоял красный спортивный «Пежо».
– Она забыла пакет с продуктами в машине, – объяснил Герман, глядя вверх, на окно офиса, – она сейчас в ванной, так что ты быстренько… Прости, я не могу поймать для тебя машину, не успею, но здесь нормально, не опасно. – Он даже попытался поцеловать ее и прошептал, что завтра позвонит.
Василиса еле сдержалась, чтобы не врезать ему по физиономии, и потом долго жалела, что не врезала.
Это было совсем недавно. Всего лишь неделю назад. А еще неделей раньше она завалила экзамены в университет. Самое обидное, что даже не завалила. Просто ее мама легкомысленно мало заплатила нужному человеку. Человек этот даже намекнул Василисе по телефону, накануне последнего экзамена, что следует дать еще. Однако мама улетела в Испанию. Она служила гувернанткой в богатом семействе, воспитывала двенадцатилетнюю чужую девочку. Папа со своей новенькой женой и двумя новенькими маленькими детками отдыхал в Греции.
Что противней, провал экзаменов или Герман с его пожилой начальницей, Василиса не знала. Да это и не важно. Дня три она не вылезала из дома, под орущий телевизор валялась на своем коврике, смотрелась в кривое зеркало, пыталась читать, но строчки расплывались. Пыталась плакать, но тут же засыпала.
Наконец, проснувшись в очередной раз, вымыла голову, причесалась, оделась и отправилась шляться по душной смутной Москве, не просто так, а с конкретной целью. Ей вдруг безумно захотелось купить себе на последние полторы тысячи рублей коричневые джинсы-клеш. Но именно таких джинсов не нашла, устала, забрела в маленькое подвальное кафе на Гоголевском бульваре и познакомилась там с Гришей, а потом он познакомил ее со своими друзьями и пригласил к одному из них на дачу, в итоге они оказались в этом страшном Бермудском треугольнике.
«Я посплю капельку».
Она была уверена, что произнесла это вслух, но собственного голоса не услышала. Рядом ревел мотор. Катер возвращался. Это был последний шанс позвать на помощь. Но шевельнуться и крикнуть казалось невозможно. Она вспомнила, как Гриша пугал всех симптомами отравления угарным газом. Слабость, тошнота, головная боль. Иногда потеря сознания, вплоть до глубокой комы.
«Я капельку посплю».
Во сне она увидела Гришу. Он смотрел на нее живыми ясными глазами. Во сне она решила, что выкинет свое увеличительное зеркало. Она вполне четко увидела, как открывает ящик, достает зеркало в красивой золотистой рамке, смотрится в последний раз, и там возникает ее лицо, вернее то, что осталось от лица. Черные дыры глазниц, оскаленный рот, клочья обугленной кожи…
Василиса сначала вскочила на ноги, а потом уж проснулась и почувствовала жуткую, ни с чем не сравнимую боль. Секунду назад она дернулась во сне, вскинула руку с воображаемым зеркалом, чтобы отбросить его подальше, и задела тлеющий сучок мертвой, давно рухнувшей елки.
Наверное, она кричала. Но никакого звука не вылетело из ее горла. От этого стало совсем страшно. Надо было бежать, идти, ползти, как можно скорей и как можно дальше отсюда, пока хватит сил.
* * *Оказавшись в крошечном гостиничном номере, Андрей Евгеньевич Григорьев скинул ботинки и рухнул на целомудренно узкую койку.
«Надо встать, открыть чемодан, принять душ, почистить зубы. Хотя бы просто раздеться и залезть под одеяло», – подумал он.
И тут же уснул.
В номере было тихо, как в пещере. Единственное окно выходило в глухой бетонный колодец. Григорьеву приснилась московская квартира, в которой четверть века назад он, молодой офицер КГБ, жил с женой и дочерью. Дочь Маша, сегодняшняя, взрослая Маша, стопроцентная американка Мери Григ, сидела на диване, поглаживая белого кота Христофора Первого. Покойный кот уютно свернулся у нее на коленях и урчал, как деревенский мотороллер.
Обстановка квартиры была воссоздана довольно точно, но тени расходились неправильно, в разные стороны, независимо от направления света. Зеркало стенного шкафа отражало не книжные полки и угол дивана, а почему-то кухонный стол и разноцветные шарики люстры, которая висела за стеной, в соседней комнате. Ни один из предметов не выдерживал долгого внимательного взгляда, подтекал, оплывал и терял форму, как пластилиновая фигурка на горячей батарее. Когда явилась Катя, жена Григорьева, мать Маши, погибшая в восемьдесят пятом году, подвох стал очевиден. Катя была непомерно большая, в глухом розовом платье до пят. Ткань зыбилась медленными крупными волнами, предательски подчеркивая, что там, под ней, пустота вместо тела. Катя курила толстую сигару, чего никогда не делала при жизни. Аккуратные столбики пепла падали на клетчатый черно-белый ковер, но не рассыпались, а превращались в шахматные фигуры и выстраивались в исходную позицию для игры.