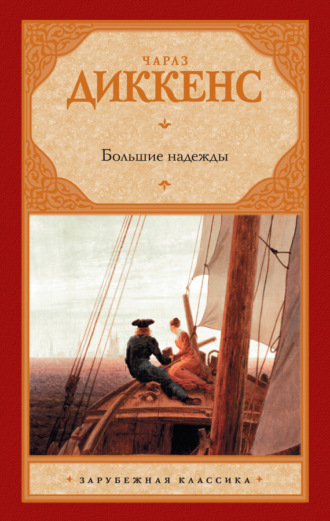
Полная версия
Большие надежды
Едва только черный бархатный полог за моим оконцем начал бледнеть, я встал и отправился вниз, и каждая половица и каждая щель в половице кричала мне вслед: «Держи вора!», «Проснитесь, миссис Джо!» В кладовой, где по случаю праздника всякой снеди было больше обычного, меня сильно напугал заяц, подвешенный за задние ноги, – мне показалось, что он хитро подмигивает у меня за спиной. Однако проверить мое подозрение было некогда, и долго выбирать было некогда, у меня не было ни минуты лишней. Я стащил краюху хлеба, остаток сыра, полбанки фруктовой начинки (завязав все это в носовой платок вместе с вчерашним ломтем), отлил немного бренди из глиняной бутыли в склянку, которая была припрятана у меня на предмет изготовления крепкого напитка – лакричной настойки, а бутыль долил из кувшина, стоявшего в кухонном буфете, стащил кость почти без мяса и великолепный круглый свиной паштет. Я совсем было ушел без паштета, но в последнюю минуту меня взяло любопытство, что это за миска, накрытая крышкой, стоит в самом углу на верхней полке, и там оказался паштет, который я и забрал в надежде, что он приготовлен впрок и его не сразу хватятся.
Из кухни была дверь прямо в кузницу; я отпер ее, отодвинул засов и среди инструментов Джо нашел подпилок. Потом снова задвинул все болты и засовы, открыл входную дверь и, затворив ее за собой, побежал в туман, на болота.
Глава III
Утро было мглистое и очень сырое. Еще вставая, я видел, что по оконному стеклу бегут струйки, словно бесприютный бесенок проплакал там всю ночь, уткнувшись в окошко вместо носового платка. Теперь было видно, как изморозь густой паутиной легла на голые ветки изгородей и чахлую траву, протянулась от сучка к сучку, от былинки к былинке. Ворота, заборы – все было липко от влаги, а с болот наползал такой густой туман, что прибитый к столбу деревянный палец, указывающий путникам дорогу в нашу деревню, – только путники, видно, не слушались его, потому что к нам никто никогда не заходил, – возник в воздухе, лишь когда я очутился прямо под ним. И пока я смотрел на стекающие с него капли, неспокойная совесть шептала мне, что это – призрак, навеки обрекающий меня плавучей тюрьме.
На болотах туман был еще плотнее, так что казалось, словно не я бежал навстречу предметам, а они выбегали мне навстречу. Помня о своей вине, я ощущал это особенно болезненно. Шлюзы, плотины и дамбы выскакивали на меня из тумана и явственно кричали: «Держи его! Мальчик украл свиной паштет!» Коровы, столь же внезапно налетая на меня, говорили глазами и выдыхали вместе с паром: «Попался, воришка!» Черный бык в белом галстуке – измученный угрызениями совести, я даже усмотрел в нем сходство с пастором – так пристально поглядел на меня и с таким укором помотал головой, что я обернулся и, всхлипнув, сказал ему: «Я не мог иначе, сэр! Я взял не для себя!» Тогда он, нагнув голову, выпустил из ноздрей целое облако пара, брыкнул задними ногами, взмахнул хвостом и исчез.
Я быстро приближался к реке, но, хотя я очень спешил, ноги у меня ничуть не согревались; ледяная сырость сковала их, как железо сковало ногу человека, на свидание с которым я бежал. Дорога на батарею была мне известна, – я ходил туда с Джо как-то в воскресенье, и Джо, сидя на старой пушке, еще сказал мне в тот раз, что когда меня честь честью запишут к нему в подмастерья, то-то будет расчудесно! И все же, сбившись в тумане с пути, я забрал слишком далеко вправо, и мне пришлось возвращаться обратно берегом реки, по каменистой дорожке вдоль илистой кромки и свай, задерживающих воду во время прилива. Стараясь не терять ни минуты, я живо перебрался через канаву, проходившую, как я помнил, совсем близко от батареи, и только что влез на противоположный откос, как увидел своего знакомца. Он сидел ко мне спиной, скрестив руки, и покачивался, словно во сне.
Решив устроить ему приятный сюрприз, я тихонько подошел к нему сзади и тронул его за плечо. Он мигом вскочил, и что же? Это был не тот человек, а совсем другой!
Однако у этого человека тоже была грубая серая одежда и железная цепь на ноге, и он хромал, и хрипел, и дрожал от холода, совсем как тот; только лицо было другое, и на голове – широкополая шляпа с низкой тульей. Все это я увидел в одно мгновение, потому что всего мгновение и видел его: он выругался и хотел меня ударить, но лишь замахнулся неуверенным, слабым движением и сам едва удержался на ногах, а потом побежал прочь, в туман, два раза споткнулся, и тут я потерял его из виду.
«Это и есть тот приятель!» – подумал я, и у меня больно закололо в сердце. Вероятно, у меня и печенка бы заболела, если бы я только знал, где она находится.
Теперь мне оставалось добежать несколько шагов до батареи, где мой знакомец, поджидая меня, уже ковылял взад-вперед, обхватив себя руками, словно не прекращал этого занятия всю ночь. Он, как видно, совсем продрог. Я бы не удивился, если бы он тут же, не сходя с места, упал и замерз насмерть. Глаза у него были ужасно голодные: когда он, взяв у меня подпилок, положил его на траву, я даже подумал, что он, наверно, попытался бы его съесть, если бы не увидел моего узелка. На этот раз он не стал переворачивать меня вниз головой, а предоставил мне самому вывернуть карманы и развязать узелок.
– Что в бутылке, мальчик? – спросил он.
– Бренди.
Он уже начал набивать себе рот фруктовой начинкой, – причем похоже было, что он не столько ест ее, сколько в страшной спешке убирает куда-то подальше, – но тут он сделал передышку, чтобы глотнуть из бутылки. Его так трясло, что, закусив горлышко бутылки зубами, он едва не отгрыз его.
– У вас, наверно, лихорадка, – сказал я.
– Скорей всего, мальчик.
– Тут очень нездоровое место, очень сырое, – сообщил я ему. – Вы лежали на земле, а этак ничего не стоит схватить лихорадку. Или ревматизм.
– Ну, я еще успею закусить, пока лихорадка меня не свалила, – сказал он. – Знай я, что меня за это вздернут вон на той виселице, я бы и то закусил. Настолько-то я справлюсь со своей лихорадкой.
Он глодал кость, заглатывал вперемешку мясо, хлеб, сыр и паштет, но все время зорко всматривался в окружавший нас туман, а порою даже переставал жевать, чтобы прислушаться.
Внезапно он вздрогнул – то ли услышал, то ли ему почудилось, как что-то звякнуло на реке или фыркнула какая-то зверюшка на болоте, – и спросил:
– А ты не обманул меня, чертенок? Никого с собой не привел?
– Нет, нет, сэр!
– И никому не наказывал идти за тобой следом?
– Нет!
– Ладно, – сказал он, – я тебе верю. Никудышным ты был бы щенком, ежели бы с этих лет тоже стал травить колодника несчастного, когда его и так затравили до полусмерти.
Что-то булькнуло у него в горле, как будто там были спрятаны часы, которые сейчас начнут бить, и он провел по глазам грязным, разодранным рукавом.
Мне стало очень жалко его, и, глядя, как он, покончив с остальным, всерьез принялся за паштет, я набрался храбрости и заметил:
– Я очень рад, что вам нравится.
– Ты что-нибудь сказал?
– Я сказал, я очень рад, что вам нравится паштет.
– Спасибо, мальчик. Паштет хоть куда.
Я часто смотрел, как ест наша большая дворовая собака, и теперь вспомнил ее, глядя на этого человека. Он ел торопливо и жадно – ни дать ни взять собака; глотал слишком быстро и слишком часто, и все озирался по сторонам, словно боясь, что кто-нибудь подбежит к нему и отнимет паштет. Мне думалось, что в таком волнении и спешке он его и не распробует как следует и что если бы он ел не один, то наверняка стал бы лязгать зубами на своего соседа. Все это в точности напоминало нашу собаку.
– Аему вы ничего не оставите? – осведомился я робко, после некоторого колебания, потому что опасался, как бы мои слова не показались ему невежливыми. – Ведь больше я ничего не могу вам достать. – Это я знал твердо, и только потому и решился заговорить.
– Ему не оставлю? Кому это? – спросил он, сразу перестав хрустеть корочкой от паштета.
– Вашему приятелю. О котором вы говорили. Который у вас спрятан.
– Ах, ты вот о чем, – отвечал он с грубоватым смехом. – Ему-то? Так, так. Ну, он в еде не нуждается.
– А мне показалось, что нуждается, – сказал я.
Он оторвался от еды и в полном изумлении впился в меня глазами.
– Показалось? Когда это?
– Да вот только что.
– Где?
– Там, – указал я пальцем, – вон там; он спал, и я еще подумал, что это вы.
Он схватил меня за шиворот и так сверкнул глазами, что я испугался, как бы ему опять не захотелось перерезать мне горло.
– И одет так же, как вы, только в шляпе, – объяснил я, весь дрожа, – и… и… – мне очень хотелось выразиться помягче, – и ему для того же самого нужен подпилок. Разве вы вчера вечером не слышали, как палила пушка?
– Значит, и вправду стреляли, – сказал он, точно про себя.
– Странно, как вы еще сомневаетесь, – удивился я. – Мы дома все слышали, а это дальше, и двери у нас были закрыты.
– А ты то́ сообрази, что, когда человек один на этом болоте, и голова у него пустая, и в брюхе пусто, и сам он еле живой от холода и голода, он всю ночь только и слышит, что выстрелы и голоса. Да что там слышит! Он видит, как солдаты окружают его, видит их красные мундиры при свете факелов. Слышит, как выкрикивают его номер, как его окликают, как щелкают мушкеты, слышит команду: «Готовьсь! Целься!», и его хватают… и вдруг ничего этого нет. Да я за ночь не раз, а сто раз видел, что за мной гонятся солдаты – топ, топ сапожищами, черт бы их побрал! А пушки? Я, уж когда рассвело, и то видел, как туман колышется от выстрелов… Ну, а этот человек, – до сих пор он говорил так, словно забыл о моем существовании, – ты не приметил в нем ничего особенного?
– У него лицо было сильно разбито, – сказал я, припомнив то, что и сам не знал, когда успел заметить.
– Вот здесь? – воскликнул он, безжалостно хлопнув себя ладонью по левой щеке.
– Да, здесь.
– Где он? – Человек запихал остатки еды за пазуху. – Показывай, куда он пошел? Я его выслежу не хуже ищейки. Ох, еще эта цепь на ноге, будь она проклята! Подай-ка мне подпилок.
Я указал, в какой стороне туман поглотил незнакомца, и он, подняв голову, взглянул туда, но в следующую минуту он уже сидел на спутанной мокрой траве и как одержимый пилил железное кольцо, не обращая внимания ни на меня, ни на свою ногу, которая была стерта до крови, что не мешало ему обходиться с нею так, словно она сама была железная. Теперь, когда он довел себя до такого исступления, мне опять стало с ним очень страшно, и страшно было, что дома заметят мое долгое отсутствие. Я сказал ему, что мне пора домой, но он будто не слышал, и я решил уйти потихоньку. Я оглянулся на него напоследок, – низко пригнувшись, он продолжал что есть силы пилить железное кольцо, вполголоса ругая и его и собственную ногу. Пробежав несколько шагов, я прислушался – и скрежет подпилка донесся до меня из тумана.
Глава IV
Я был вполне готов к тому, что в кухне меня дожидается констебль, чтобы тотчас взять под стражу. Однако там не только не оказалось констебля, но и кража еще не была обнаружена. Миссис Джо выбивалась из сил, готовя дом к праздничному пиршеству, а Джо велено было убраться за дверь, подальше от совка для сора, потому что всякий раз, как моя сестра особенно рьяно принималась наводить чистоту в своих владениях, Джо неизбежно попадал ногой в этот предмет домашнего обихода.
– А тебя где носило? – услышал я от миссис Джо в виде праздничного приветствия, лишь только мы с моей совестью показались в дверях.
Я сказал, что ходил слушать, как славят Христа.
– Ну, это еще куда ни шло, – процедила миссис Джо. – А то ведь с тебя все станет.
Я подумал, что это верно.
– Не будь я кузнецовой женой, а стало быть, рабой несчастной, которой и передник-то снять некогда, я бы, может, и сама сходила послушать, – сказала миссис Джо. – Я смерть люблю, когда Христа славят, потому мне, наверно, и не удается никогда послушать.
Увидев, что совок отступил от порога, Джо вслед за мной бочком пробрался в кухню и в ответ на гневный взгляд миссис Джо примирительно почесал переносицу, а когда сестра отвернулась, молча скрестил указательные пальцы и подмигнул мне. Этим условным знаком мы сообщали друг другу, что миссис Джо не в духе, а поскольку это было обычное ее состояние, мы с Джо, можно сказать, иногда на целые недели уподоблялись надгробным статуям рыцарей, с той разницей, что они, как известно, лежат скрестив ноги.
Обед нам предстоял поистине роскошный – соленый окорок с гарниром и фаршированные куры. Сладкий пирог был испечен еще вчера утром (почему никто и не хватился остатков фруктовой начинки), а пудинг уже стоял на огне. Ввиду такого обеденного изобилия завтрак нам попросту отменили.
– Чтобы я еще вас с утра кормила, да поила, да посуду за вами мыла, – сказала миссис Джо, – когда мне с обедом дай Бог управиться, – нет уж, увольте!
Она сунула нам по ломтю хлеба так, словно мы были полк солдат на походе, а не мужчина и ребенок у себя дома, и мы стыдливо запили его молоком, разбавленным водой, из стоявшего на полке кувшина. А миссис Джо тем временем повесила на окна чистые белые занавески, сменила пышную цветастую оборку над очагом и открыла взорам маленькую парадную гостиную, где в остальное время года никто не бывал и все недвижимо покоилось в холодном блеске серебряной бумаги – даже четыре белых фарфоровых собачки на камине, совершенно одинаковые, с черными носами и с корзиночками цветов в зубах. Миссис Джо была очень чистоплотной хозяйкой, но обладала редкостным умением обращать чистоту в нечто более неуютное и неприятное, чем любая грязь. Чистоплотность, говорят, сродни благочестию, и есть люди, достигающие того же своей набожностью.
Будучи всегда занята по горло, сестра моя посещала церковь через доверенных лиц; другими словами, в церковь ходили Джо и я. В рабочем платье Джо выглядел ладным мужчиной, заправским кузнецом; в парадном же костюме он больше всего напоминал расфранченное огородное пугало. Все, что он надевал по праздникам, было ему не впору, словно с чужого плеча, все ему жало, тянуло. И в этот день, когда зазвонили в церкви и он вышел из своей комнаты, закованный с головы до пят в праздничные доспехи, вид у него был самый несчастный. Что касается меня, то у сестры, видимо, сложилось обо мне представление как о малолетнем преступнике, который в самый день своего рождения был взят под надзор полицейским акушером и передан ей с внушением – действовать по всей строгости закона. Она всегда обращалась со мною так, точно я появился на свет из чистого упрямства, вопреки всем велениям разума, религии и нравственности и наперекор увещаниям своих лучших друзей. Даже когда мне заказывали новое платье, от портного требовали, чтобы оно являло собой нечто вроде колодок и ни в коем случае не оставляло мне свободы движений.
Поэтому не одно жалостливое сердце, должно быть, сжималось при виде того, как мы с Джо шествуем в церковь. Однако куда горше телесных страданий были душевные муки, которые я испытывал. Страх, охватывавший меня всякий раз, как миссис Джо приближалась к кладовой или выходила из кухни, мог сравниться только с раскаянием при мысли о содеянном мною. Подавленный своим тайным проступком, я размышлял о том, в силах ли будет церковь оградить меня от мщения ненасытного «приятеля», если я во всем ей откроюсь. Я уже решил, что самое подходящее время, чтобы встать и попросить о частной беседе в ризнице, наступит, когда священник прочтет оглашение и скажет: «Все имеющие что-либо против объявите о том немедля!» И вполне возможно, что, будь в тот день не Рождество, а воскресенье, я действительно прибегнул бы к этой крайней мере, тем повергнув в изумление наших немногочисленных прихожан.
Обедать к нам были приглашены псаломщик мистер Уопсл, колесник мистер Хабл со своей женой миссис Хабл и дядя Памблчук, состоятельный торговец зерном из соседнего городка, разъезжавший в собственной тележке (он приходился дядей нашему Джо, но миссис Джо присвоила его себе). Обед был назначен на половину второго. Когда мы с Джо воротились из церкви, стол был уже накрыт, миссис Джо готова, обед почти готов, парадная дверь отперта для приема гостей (обычно она стояла на запоре), словом – все обстояло как нельзя лучше. И о краже по-прежнему – ни звука.
Пришло время обеда, не принеся мне никакого облегчения; пришли и гости. Мистер Уопсл, джентльмен с римским носом и огромным блестящим лысым лбом, обладал низким раскатистым голосом, которым необычайно гордился; среди его знакомых было даже распространено мнение, что, только дай ему волю, он заткнул бы за пояс нашего священника; и сам он не раз говорил, что, будь двери церкви открыты (для всех желающих служить в ней), он не преминул бы отличиться на этом поприще. Поскольку же двери церкви не были открыты, он был у нас, как я уже сказал, псаломщиком. Но «аминь» звучало в его устах поистине сокрушительно, а перед тем как объявить псалом – непременно весь первый стих до конца, – он всегда, бывало, оглядит собравшихся, словно говоря: «Вы слышали с кафедры голос нашего друга; ну, аэто как вам понравится?»
Я открывал гостям дверь – с таким видом, будто открывать эту дверь для нас самое привычное дело, – и впустил сначала мистера Уопсла, потом мистера и миссис Хабл и наконец дядю Памблчука, которого мне, кстати сказать, запрещалось называть дядей под страхом самого сурового наказания.
– Миссис Джо, – возгласил дядя Памблчук, грузный неповоротливый мужчина, страдающий одышкой, с выпученными глазами, рыбьим ртом и изжелта-рыжими волосами, торчком стоявшими на голове, так что казалось, точно его недавно душили и он еще не совсем очнулся. – Я принес вам по случаю праздника… я принес вам, сударыня, бутылочку хереса и еще, сударыня, бутылочку портвейна.
Из года в год он являлся к нам на Рождество и произносил, как великую новость, в точности те же слова, держа свои бутылки на манер гимнастических гирь. Из года в год миссис Джо отвечала ему, как и в этот раз: «Ах, дя-дя Памбл-чук! Какое баловство!» Из года в год он возражал, как и в этот раз: «По заслугам и честь. Ну, как вы тут? Скрипите помаленьку? Как наш пенни с фартингом?» Последнее относилось ко мне.
Обедали мы в этих случаях в кухне, а потом переходили в гостиную есть орехи, апельсины и яблоки, причем переход этот очень напоминал переодевание Джо из рабочего платья в парадный костюм. Сестра моя была в тот день необычайно оживлена; впрочем, общество миссис Хабл всегда оказывало на нее благотворное действие. Миссис Хабл запомнилась мне как маленькая, сухощавая женщина с кудряшками, в небесно-голубом платье, притязавшая на неувядаемую молодость по той причине, что была намного моложе мистера Хабла, когда в давно прошедшие времена выходила за него замуж. Мистер Хабл запомнился мне как крепкий, высокий, сутулый старик, приятно пахнувший опилками и на ходу так широко расставлявший ноги, что, когда я в раннем детстве встречал его на деревенской улице, мне открывался между ними вид на всю нашу округу.
В этом почтенном обществе я чувствовал бы себя прескверно, даже если бы не ограбил кладовую. И не потому, что мне было тесно сидеть и острый угол стола впивался мне в грудь, а локоть Памблчука лез в глаза; и не потому, что мне не велели разговаривать (я и сам не хотел разговаривать) или что на мою долю доставались только жесткие куриные лапки и те глухие закоулки окорока, которыми свинья при жизни имела меньше всего оснований гордиться. Нет; это все было бы с полбеды, если бы взрослые оставили меня в покое. Но они не оставляли меня в покое. Они словно хватались за всякую возможность перевести разговор на мою особу и чем-нибудь да кольнуть меня. И я, как несчастный бычок на арене испанского цирка, болезненно ощущал уколы этих словесных копий.
Началось это, лишь только мы сели за стол. Мистер Уопсл продекламировал молитву, – теперь я бы сказал, что это было нечто среднее между духом Гамлетова отца и Ричардом Третьим, но с сильной примесью благочестия, – и под конец, как подобает, высказал упование, что мы будем вечно благодарны Творцу. Тут сестра уставилась на меня и проговорила тихо и укоризненно:
– Слышишь? Будь благодарен.
– Особенно же, мальчик, – сказал мистер Памблчук, – будь благодарен тем, кто воспитал тебя своими руками.
Миссис Хабл покачала головой и, устремив на мою особу безнадежный взгляд, казалось говоривший, что ничего путного из меня не выйдет, спросила:
– И почему это дети всегда такие неблагодарные?
Все стали в тупик перед этой загадкой, и только мистер Хабл разгадал ее, сухо отрезав:
– Такими уж родятся уродами.
Все подтвердили вполголоса: «Истинная правда!» – и посмотрели на меня как-то особенно враждебно.
При гостях Джо (если только это возможно) значил в доме еще меньше, чем без них. Но по мере сил он всегда выручал и утешал меня, и за обедом давал мне как можно больше подливки, если таковая имелась. В тот день подливки было много, и Джо тотчас зачерпнул мне ее с полпинты.
Мистер Уопсл довольно строго отозвался о проповеди, которую мы слышали в то утро, и дал понять в общих чертах, какую проповедь произнес бы он сам в том маловероятном случае, если бы двери церкви были открыты. Познакомив присутствующих с главными пунктами этого сочинения, он заявил, что, на его взгляд, и тема была выбрана священником неудачно, а это уж вовсе не простительно, потому что хороших тем, как он выразился, «хоть пруд пруди».
– Правильно, – сказал дядя Памблчук. – В самую точку попали, сэр! Тем действительно хоть пруд пруди, только надо суметь насыпать им соли на хвост. В этом вся штука. За темами недалеко ходить, была бы солонка наготове. – Немного подумав, мистер Памблчук добавил: – Взять хотя бы свинину. Чем не тема? Если вам нужна тема, повторяю: возьмите свинину!
– Совершенно верно, сэр, – отвечал мистер Уопсл. – Для малолетних… – я уже знал, что сейчас он приплетет меня, – …в высшей степени благодарная и поучительная тема.
(«Слушай хорошенько», – в скобках цыкнула на меня сестра.)
Джо добавил мне подливки.
– Свинья! – продолжал мистер Уопсл глубочайшим басом, указуя вилкой на мою смущенную физиономию, словно называл меня по имени. – Со свиньями водил компанию блудный сын. Прожорливость свиней приводится как дурной пример в назидание малолетним. («А сам только что расхваливал окорок, – подумал я, – какой он жирный да сочный».) То, что предосудительно в свинье, тем более предосудительно в мальчике.
– Или в девочке, – подсказал мистер Хабл.
– Ну, разумеется, мистер Хабл, – согласился мистер Уопсл не без досады, – но девочек я здесь не вижу.
– К тому же подумай, – сказал мистер Памблчук, внезапно наскакивая на меня, – как ты должен быть благодарен судьбе. Доведись тебе родиться маленьким визгливым поросенком…
– А он как раз и был таким, – убежденно заметила моя сестра.
Джо добавил мне подливки.
– Да, но я имею в виду поросенка четвероногого, – сказал мистер Памблчук. – Доведись тебе родиться свинушкой, был бы ты сейчас здесь, а? Как бы не так.
– Разве что в таком виде, – сказал мистер Уопсл, кивая на блюдо.
– Но я говорю не о таком виде, сэр, – с досадой возразил мистер Памблчук, не любивший, чтобы его перебивали. – Я хотел сказать: мог бы он тогда наслаждаться обществом старших, просвещать свой ум их беседой и купаться в роскоши? Я спрашиваю: мог бы или нет? Нет, не мог бы. А что бы тебя тогда ожидало? – снова наскочил он на меня. – Продали бы тебя за столько-то шиллингов, смотря по тому, какая этому товару цена на рынке, и мясник Данстебл поднял бы тебя с соломенной подстилки, прихватил бы левым локтем, а правой рукой отвернул бы полу, чтобы достать из кармана ножичек, и пролилась бы твоя кровь, и пришел бы тебе конец. Тут уж никто не стал бы воспитывать тебя своими руками. Где там!
Джо предложил мне еще подливки, но я побоялся взять.
– Он, должно быть, доставил вам немало хлопот, сударыня, – сказала миссис Хабл, преисполнившись сострадания к моей сестре.
– Хлопот? – отозвалась та. – Хлопот? – И пустилась перечислять все болезни, в которых я провинился, и все случаи моей злостной бессонницы, и все деревья и крыши, с которых я падал, и все пруды и канавы, в которых я чуть не утонул, и все мои синяки и ссадины, и сколько раз она молила Бога о моей смерти, а я упорно отказывался умирать.
Я склонен думать, что римляне изрядно раздражали друг друга своими носами. Поэтому, возможно, из них и получился такой непоседливый народ. Во всяком случае, римский нос мистера Уопсла так раздражал меня, пока оглашался список моих провинностей, что я готов был вцепиться в него и не отпускать, покуда его обладатель не взвоет. Но все, что я вытерпел до сих пор, не могло и сравниться с тем смятением, какое охватило меня, когда молчание, которое последовало за рассказом моей сестры и во время которого (как я мучительно сознавал) все смотрели на меня с гневом и отвращением, – когда это молчание было нарушено.









