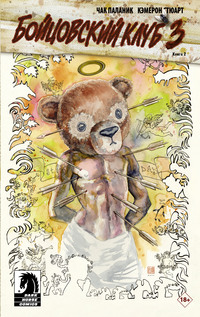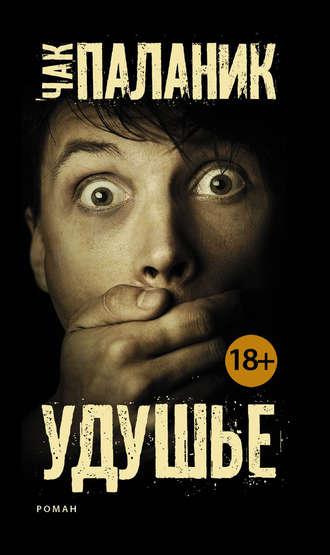
Полная версия
Удушье
– Слушай, друг, – говорит Денни, – у меня снова штаны сползают.
Я их снова подтягиваю.
Рубашка Денни, намокшая от дождя, липнет к спине, так что видны позвонки и лопатки. Белые-белые, даже белее, чем небеленый хлопок. Жидкая грязь заливается в его деревянные башмаки. Хотя я в плаще и шляпе, я тоже промок насквозь. Все хозяйство в штанах скукожилось и жутко чешется, потому что намокшая шерсть кусается. Даже цыплята-калеки расползлись кто куда – где посуше.
– Друг, – говорит Денни и шмыгает носом, – ты иди. Ты не должен торчать тут со мной.
Насколько я помню физическую диагностику, бледность Денни может означать дисфункцию печени.
Смотри также: лейкемию.
Смотри также: отек легких.
Дождь идет все сильнее, небо плотно затянуто тучами. На улице так темно, что в домах зажигают лампы. Из труб валит дым. Туристы набились в таверну – пьют австралийский эль из оловянных кружек, сделанных в Индонезии. В мебельной мастерской краснодеревщик на пару с кузнецом нюхают клей из бумажных пакетов. Может, к ним присоединится и повивальная бабка, и они снова будут болтать о том, что надо бы сколотить рок-группу. Такая у них мечта, которая никогда не воплотится.
Мы все – в ловушке. В застывшем времени. Здесь всегда 1734 год. Мы заперты в герметично запаянной временной капсуле – как эти ребята из телешоу, которые потерпели крушение и живут на необитаемом острове вот уже десять лет, и при этом они не стареют и не пытаются оттуда уплыть. Просто с каждым сезоном на них все больше и больше грима. Это шоу в своем роде тоже, наверное, исторически достоверно. Даже жуть берет, как достоверно.
И еще жуть берет, когда я представляю, что простою так вот всю жизнь. Кстати, такое вполне может быть. Есть в этом некое странное утешение – когда мы с Денни на пару ругаем одно и то же паскудство. Всегда. Насовсем. В вечной программе реабилитации. Да, я буду стоять рядом с ним, но, чтобы уже до конца соблюсти историческую достоверность, признаюсь, что, по мне, лучше, чтобы он сидел в колодках, чем если его прогонят из города, то есть уволят, и я останусь один.
Не то чтобы я очень хороший друг. Я скорее заботливый врач, который сам, по собственному почину, выправляет вам позвонки раз в неделю.
Или дилер, который толкает вам героин.
«Паразит» – не совсем верное слово, но это первое, что приходит на ум.
Парик Денни опять плюхается на землю. «Отсоси у меня» расплывается под дождем, размытая красная краска похожа на кровь – течет по его синим холодным ушам, по глазам, по щекам. Капает в грязь.
Кроме дождя, ничего не слышно. Только как капли стучат по лужам, по соломенным крышам, по мне и по Денни. Водяная эрозия.
Не то чтобы я очень хороший друг. Я скорее спаситель, которому нужно, чтобы его почитали и обожали.
Денни снова чихает. Желтоватые сопли летят во все стороны, в частности – на почти утонувший в грязи парик. Денни говорит:
– Слушай, ты больше не надевай на меня эту тряпку, ага? – и шмыгает носом. Потом кашляет, и очки падают в грязь.
Сгущенные выделения из носа означают краснуху.
Смотри также: коклюш.
Смотри также: пневмония.
Его очки напомнили мне про доктора Маршалл, и я говорю, что познакомился с новой девушкой, она настоящий врач и, вообще, ее стоит трахнуть.
И Денни говорит:
– Ты все еще бьешься над своей четвертой ступенью? Помочь не надо? В смысле – напомнить о славных подвигах?
Детальная и безжалостная история моей сексуальной зависимости. Полная опись моих грехов. Каждый срыв, каждый проступок, каждая гадость.
И я говорю:
– Во всем следует проявлять умеренность. Даже в выздоровлении.
Не то чтобы я очень хороший друг. Я скорее родитель, которому очень не хочется, чтобы его чадо взрослело.
И Денни говорит, глядя в землю:
– Очень полезно бывает вспомнить свой первый раз. Для всего. – Он говорит: – Когда я дрочил в первый раз, у меня было такое чувство, как будто я это изобрел. Я смотрел на свои влажные руки и думал: Во, теперь я разбогатею.
Первый раз для всего. Неполный список моих преступлений. Еще одна незавершенность в моей безалаберной жизни, которая сплошь – одни незавершенности.
И Денни – по-прежнему глядя вниз и не видя ничего, кроме грязи, – говорит:
– Ты еще тут?
И я опять подношу ему к носу платок и говорю:
– Сморкайся.
Глава 5
Свет на снимках был слишком резким, так что тени фигур на бетонной стене получились какими-то чересчур темными. Самая обыкновенная стена в каком-то подвале. У обезьяны – усталый вид. Шерсть – вся в проплешинах от чесотки. У парня вид тоже больной: кожа бледная, лишний жирок на талии. Он стоит раком, задницей к зрителю, опираясь руками о согнутые колени, – причиндал уныло свисает, – и улыбается в камеру, обернувшись через плечо.
«Блаженная улыбка» – не совсем верное слово, но это первое, что приходит на ум.
Больше всего в порнографии мальчику нравился даже не секс. Не изображения красивых людей, которые трахаются друг с другом: головы запрокинуты как бы в экстазе, на лицах – фальшивые предоргазменные гримасы. Во всяком случае, поначалу. Он разглядывал эти картинки в Интернете, когда еще даже не знал, что такое секс. Сейчас в каждой библиотеке есть комп с выходом в Интернет. В каждой школе.
Точно так же, как в каждом городе, куда мальчика отправляли к приемным родителям, был католический собор, где проходили одни и те же воскресные мессы, там был и Интернет. Интернет привлекал больше. Все дело в том, что если бы Иисус смеялся на кресте, или плевал на макушки римлянам, или делал еще что-нибудь, кроме как молча страдать, Церковь – и все с нею связанное – нравилась бы мальчику больше. Гораздо больше.
И его любимый веб-сайт был вовсе не эротичным, во всяком случае – для него. Там было около дюжины фотографий коренастого парня с вечно унылым лицом, в костюме Тарзана, и с дрессированным орангутангом, который совал парню в задницу какие-то шарики, с виду похожие на жареные каштаны.
Набедренная повязка «под леопарда» сдвинута в сторону, резинка врезается в талию, где уже обозначился лишний жирок.
Обезьяна готова впиндюрить ему очередной каштан.
В этом нет ничего сексуального. И тем не менее, судя по счетчику посещений, эту картинку ходили смотреть более полумиллиона человек.
«Паломничество» – не совсем верное слово, но это первое, что приходит на ум.
Ребенок не понимал, что означают каштаны и обезьяна, но парень в костюме Тарзана вызывал у него что-то похожее на восхищение. Мальчик был глупым, но ему все же хватало ума понять, что он сам никогда не решится на что-то подобное. На самом деле, большинство людей постеснялись бы даже раздеться перед обезьяной. Им было бы стыдно показать свою голую задницу обезьяне, как будто обезьяна что-то понимает в человеческих задницах. Большинству из людей не хватило бы мужества просто встать раком перед обезьяной – не говоря уж о том, чтобы встать раком перед обезьяной, когда тебя фотографируют, – но даже если бы кто-то решился, то все равно он сначала бы посетил парикмахерскую и солярий и подкачался бы в тренажерном зале. После чего он бы еще долго тренировался перед зеркалом, как бы поэлегантнее встать раком и найти самый выгодный ракурс.
А уж дать обезьяне засунуть каштан себе в задницу – на это способны считанные единицы.
И есть еще одно обстоятельство. Страшно даже представить, что ты можешь вдруг не понравиться обезьяне. Что она не захочет иметь с тобой дела. Человеку можно заплатить денег – за деньги он вставит тебе в задний проход что угодно и сфотографирует тебя в любой позе. Но обезьяна – другое дело. Ее не подкупишь деньгами. Звери – они всегда искренние и честные.
Твоя единственная надежда – подписать конкретно этого орангутанга, потому что он, очевидно, не самый разборчивый. Либо его исключительно хорошо выдрессировали.
Все дело в том, что глупый маленький мальчик вряд ли запал бы на снимок, если бы там все было красиво и сексапильно.
Все дело в том, что в этом мире, где каждый обязан выглядеть безупречно и симпатично, этот парень не выглядел симпатично. И обезьяна тоже не выглядела симпатичной. И то, чем они занимались.
Все дело в том, что в порнографии мальчика привлекал не секс. Его привлекало совсем другое. Уверенность в себе. Мужество. Полное отсутствие стыда. Предельная честность. Способность вот так вот, без всяких дурацких комплексов, выставить себя напоказ и открыто сказать всему миру: Да, именно этим я и занимаюсь в часы досуга. Позирую перед камерой, когда обезьяна сует мне каштаны в задницу.
И мне плевать, как я выгляжу. Или что вы по этому поводу думаете.
Не нравится – не смотрите.
Давая себя поиметь, он тем самым имел целый мир.
Но даже если ему и не нравился этот процесс с каштанами, способность изображать довольную улыбку – это само по себе достойно всяческого восхищения.
Так же, как и любой порнофильм подразумевает, что за пределами обзора камеры обязательно присутствуют какие-то люди, которые невозмутимо вяжут, или жуют бутерброды, или посматривают на часы, пока актеры занимаются сексом – жестким порносексом – буквально тут же. На расстоянии в два-три шага…
Для глупого маленького человечка это было великое откровение. Стать таким же спокойным, таким же уверенным в себе – это была бы нирвана.
«Свобода» – не совсем верное слово, но это первое, что приходит на ум.
Ему так хотелось, глупенькому малышу, стать таким же уверенным. Когда-нибудь.
Если бы это он снялся на фотографиях с обезьяной, он бы смотрел на них каждый день. Смотрел бы и думал: Если я смог это сделать, я смогу сделать все. Не важно, что на тебя навалится – если ты способен улыбаться, когда обезьяна запихивает тебе в задницу жареные каштаны, в бетонном подвале, под объективом фотоаппарата, тебя ничто уже не испугает.
Даже ад.
Для глупого маленького человечка это было великое откровение…
Что, если тебя увидит достаточное количество людей, тебе уже не придется страдать без внимания.
Что, если однажды тебя захватят врасплох и выставят напоказ, тебе уже никогда не спрятаться. Тогда не будет уже никакой разницы между общественной и личной жизнью.
Что, если ты сможешь иметь достаточно, тебе не захочется большего.
Что, если ты приобретешь и достигнешь, тебе уже не захочется приобретать сверх того, что есть.
Если ты высыпаешься и нормально ешь, большего и не нужно.
Если есть люди, которые тебя любят, тебе не нужно еще любви.
Когда-нибудь ты станешь взрослым и умным.
И будешь заниматься сексом – столько, сколько захочется.
Теперь у мальчика появилась цель. Иллюзия на всю оставшуюся жизнь. Обещание чего-то большего – перспективы, которые он разглядел в улыбке толстого парня на снимках.
И после этого каждый раз, когда ему было грустно, страшно или одиноко, каждый раз, когда он просыпался ночью в доме новых приемных родителей, в мокрой постели, с бешено бьющимся сердцем, каждый раз, когда ему приходилось идти в новую школу, каждый раз, когда мама его находила и приезжала за ним, в каждом сыром и промозглом номере в очередном отеле, в каждой новой, взятой напрокат машине, – мальчик вспоминал о тех двенадцати снимках, где толстый парень подставлял задницу обезьяне. Вспоминал и сразу же успокаивался. Потому что он видел, глупый маленький засранец, каким храбрым, сильным и счастливым может быть человек.
Что пытка есть пытка, а унижение есть унижение, только если ты сам выбираешь, что будешь страдать.
«Спаситель» – не совсем верное слово, но это первое, что приходит на ум.
И вот что забавно: если кто-то спасает тебя, первый порыв – тоже кого-нибудь спасти. Всех и каждого.
Маленький мальчик не знал имени того парня на снимках. Но его улыбка запомнилась на всю жизнь.
«Герой» – не совсем верное слово, но это первое, что приходит на ум.
Глава 6
Когда в следующий раз я прихожу к маме в больницу, я по-прежнему – Фред Хастингс, ее давний государственный защитник, и все это время, пока я с ней, она болтает без умолку. Потом я ей говорю, что я еще не женат, и она говорит, что это не дело. Потом она включает телевизор, какую-то мыльную оперу, ну, вы знаете… когда настоящие люди притворяются ненастоящими, с их надуманными проблемами, и настоящие люди все это смотрят и переживают надуманные проблемы ненастоящих людей, чтобы забыть о своих настоящих проблемах.
В следующий раз я по-прежнему Фред, но уже женатый и с тремя детьми. Это уже лучше, но трое детей… Трое – это уже слишком. Надо двоих, и хватит, говорит она.
В следующий раз у меня двое детей.
И с каждым разом от мамы остается все меньше и меньше.
Высохшая куколка под одеялом.
Но с другой стороны, и на стуле рядом с больничной койкой – с каждым разом все меньше и меньше Виктора Манчини.
В следующий раз я – снова я, и уже через пару минут мама звонит, вызывает сестру, чтобы она меня проводила до выхода. Мы оба молчим, но когда я беру пальто, она вдруг говорит:
– Виктор?
Она говорит:
– Я должна тебе что-то сказать.
Она долго катает в пальцах шерстинку, выдернутую из одеяла, а потом поднимает глаза и говорит:
– Тут ко мне приходил Фред Хастингс. Ты помнишь Фреда?
Да, помню.
Сейчас он женат, у него двое детей. Так приятно, говорит мама, что у хороших людей все получается.
– Я ему посоветовала купить землю, – говорит мама, – теперь они совершенно об этом не думают.
Я уточняю, кто такие «они», и она снова звонит, чтобы вызвать сестру.
Я выхожу в коридор и вижу доктора Маршалл. Она стоит прямо у двери в мамину палату, просматривает свои записи. Она поднимает глаза. За стеклами очков глаза кажутся очень большими. Она смотрит на меня; щелкает шариковой ручкой с убирающимся стержнем.
Она говорит:
– Мистер Манчини? – Она снимает очки, убирает в нагрудный карман халата и говорит: – Нам следует обсудить, как нам быть с вашей мамой.
Зонд для искусственного кормления.
– Вы спрашивали, есть ли еще какие-то варианты.
Три медсестры за стойкой дежурных внимательно наблюдают за нами. Одна из них – ее зовут Дина – кричит:
– Вас проводить?
И доктор Маршалл говорит:
– Занимайтесь, пожалуйста, своим делом.
Мне она шепчет:
– Эти молоденькие медсестры, они ведут себя так, словно они еще в школе.
Дину я трахнул.
Смотри также: Клер, дипломированная медсестра.
Смотри также: Перл, сертификат Ассоциации медицинских сестер Калифорнии.
Магия секса заключается в том, что это приобретение без бремени обладания. Не важно, скольких девушек ты приводил домой, проблема с хранением и складированием отсутствует.
Я говорю доктору Маршалл, ее сексуальным ушам и нервным рукам:
– Я не хочу, чтобы ее кормили насильно.
Медсестры по-прежнему наблюдают за нами. Доктор Маршалл берет меня под руку и отводит подальше от их поста. Она говорит:
– Я беседовала с вашей мамой. Замечательная женщина. Все ее политические акции. Все ее демонстрации. Вы, наверное, ее обожаете, вашу маму.
И я говорю:
– Ну, я бы не стал так далеко заходить.
Мы останавливаемся, и доктор Маршалл что-то шепчет. Так тихо, что я вынужден пододвинуться к ней поближе, чтобы расслышать. Совсем-совсем близко. Медсестры по-прежнему наблюдают. Она говорит, дыша мне в грудь:
– А что, если мы сможем полностью восстановить ее умственные способности? – Она щелкает шариковой ручкой с убирающимся стержнем и говорит: – Чтобы она стала такой, как прежде: умной, сильной и энергичной женщиной.
Моя мама. Такая, как прежде.
– Такое возможно, – говорит доктор Маршалл.
И я говорю не задумываясь:
– Боже упаси.
И тут же поспешно добавляю, что это, может быть, не очень удачная мысль.
Сестры на посту смеются, прикрывая ладошками рты. И даже с такого немалого расстояния я слышу, как Дина говорит:
– Так ему и надо!
Когда в следующий раз я прихожу к маме, я снова – Фред Хастингс, и у моих детей в школе одни пятерки. На этой неделе миссис Хастингс решила покрасить стены столовой в зеленый.
– Лучше в синий, – говорит мама, – в комнате, где едят, стены должны быть синие.
Теперь наша столовая синяя. Мы живем на Ист-Пайн-стрит. Мы католики. Деньги храним в Первом Городском банке. Ездим на «крайслере».
Все – по совету мамы.
Я начинаю записывать все детали, чтобы не забывать, кто я и что. В отпуск Хастингсы ездят на озеро Робсон, пишу я себе в блокнот. Там мы ловим лососей. Болеем за «Паскерс» всей семьей. Не едим устриц. Сейчас решаем вопрос с покупкой земли. Каждую субботу, когда я прихожу к маме, я сначала внимательно перечитываю свои записи.
Когда я прихожу к ней как Фред Хастингс, она тут же выключает свой телевизор.
Самшиты у дома – это хорошо, говорит она мне, но бирючина была бы лучше.
Я все это записываю.
Хорошие люди пьют только скотч, говорит она. Чистят водопровод в октябре, а потом еще раз – в ноябре. Оборачивают туалетной бумагой воздушный фильтр в автомобиле, чтобы он служил дольше. Подрезают хвойные деревья только после первых морозов. Пользуются для растопки золой.
Я все записываю. Делаю опись того, что осталось от мамы. Пятна на коже, морщины, сыпь, шелушение. Я пишу себе памятки.
Каждый день: мазаться солнцезащитным кремом.
Закрашивать седину.
Не сходить с ума.
Есть меньше сахара и жиров.
Делать больше приседаний.
Не забывать всякие мелочи.
Подрезать волосы в ушах.
Принимать кальций.
Увлажнять кожу. Каждый день.
Остановить время, чтобы всегда оставаться таким же.
Чтобы не стареть.
Она говорит:
– Помните моего сына Виктора? Вы о нем ничего не слышали?
Я замираю. У меня щемит сердце. Хотя я давно забыл, что означает это ощущение.
Виктор, говорит мама, никогда не приходит меня навестить, а если приходит, он меня никогда не слушает. Он вечно занят своими проблемами, и ему на меня наплевать. Он бросил институт – медицинский – и живет черт-те как.
Она отрывает шерстинку от одеяла.
– Он работает то ли гидом в турфирме, то ли еще кем и получает гроши, – говорит она. Вздыхает и берет пульт своей ужасной желтой рукой.
Я говорю: разве Виктор о ней не заботится? Разве у него нету права жить своей собственной жизнью? Я говорю, может быть, Виктор такой занятой, потому что он убивается каждый вечер – убивается в буквальном смысле, – чтобы оплачивать ее пребывание в этой клинике. Три тысячи в месяц. Может быть, он поэтому бросил институт. Я говорю, просто из духа противоречия, что, может быть, Виктор делает для нее все, что может.
И даже больше.
И мама улыбается и говорит:
– О Фред, вы по-прежнему рьяно бросаетесь на защиту безнадежно виновных.
Мама включает телевизор. На экране красивая молодая женщина в роскошном вечернем платье бьет другую красивую молодую женщину бутылкой по голове. Удар даже прическу ей не испортил, но наградил амнезией.
Может быть, Виктор пытается разрешить свои собственные проблемы, говорю я.
Первая красивая женщина убеждает красивую женщину с амнезией, что она – робот-убийца и должна подчиняться ее приказам. Робот-убийца с такой готовностью принимает свою новую роль, что это наводит на мысль, уж не притворяется ли она, что у нее напрочь отшибло память. Может, она всю жизнь только об этом и мечтала: дать волю своим инстинктам убийцы, и вот теперь у нее появилась такая возможность.
Мы с мамой сидим – смотрим телик. Моя обида и ярость постепенно проходят.
Раньше мама делала мне яичницу с темными хлопьями – ошметками непригорающего покрытия на сковородке. Она готовила в алюминиевых кастрюльках; лимонад мы пили из покореженных алюминиевых кружек с мягкими и холодными краешками. Мы пользовались дезодорантами с солями алюминия. Так что вовсе не удивительно, что в итоге мы стали такими, какими стали.
Во время рекламы мама опять заводит разговор про Виктора. Интересно, а как он проводит свободное время? И что с ним будет через год? Через месяц? Через неделю?
Я понятия не имею.
– И что вы имели в виду, – говорит мама, – когда сказали, что он убивается каждый вечер?
Глава 7
Когда официант уходит, я подцепляю на вилку половину бифштекса и запихиваю его в рот, целиком. И Денни говорит:
– Нет, друг. Только не здесь.
Это хороший ресторан. Люди в нарядной одежде. Свечи, хрусталь. Столовые приборы с дополнительными вилками и ножами для специальных блюд. Люди едят. Никто ни о чем не подозревает.
Я пытаюсь запихать в рот половину бифштекса. Мясо истекает соленым соком и жиром, приправленным молотым перцем. Я убираю язык подальше, чтобы освободить больше места под мясо. Слюни и мясной сок уже стекают по подбородку.
Люди, которые утверждают, что бифштекс с кровью – верная смерть, они не знают и половины всего.
Денни нервно оглядывается по сторонам и цедит сквозь зубы:
– Ты становишься жадным, дружище. – Он качает головой. – Обманом любви не получишь.
За столиком рядом с нами – пожилая женатая пара с обручальными кольцами. Они едят и одновременно читают одинаковые программки – какой-то пьесы или концерта. Когда в бокале у женщины заканчивается вино, она сама доливает себе из бутылки. Мужу она не наливает. У мужа на руке – массивные золотые часы.
Денни видит, что я наблюдаю за ними, и говорит:
– Я им все расскажу. Клянусь.
Он высматривает официантов, которые могут нас знать – знать, что я затеваю. Он злобно таращится на меня.
Кусок бифштекса такой большой, что я не могу сомкнуть челюсти. Мои щеки надулись и оттопырились. Рот болит от напряжения, когда я пытаюсь жевать. Дышать приходится через нос.
Официанты все в черных жилетах, через руку у каждого перекинуто ослепительно белое полотенце. Играет тихая музыка. Скрипка. Серебро и фарфор. Обычно мы не проворачиваем этот трюк в подобных местах, но рестораны уже кончаются. Сколько бы ни было в городе ресторанов, их число все равно ограничено, а мое представление – не из тех, которое можно повторять дважды в одном и том же месте.
Я отпиваю глоток вина.
За другим столиком рядом с нами – молодая пара. Они едят, держась за руки.
Может быть, это будут они. Сегодня.
За третьим столиком рядом – мужчина в костюме. Ест, глядя в пространство перед собой.
Может, сегодня он станет героем.
Я отпиваю еще вина и пытаюсь его проглотить, но во рту просто нет места. Бифштекс застревает в горле. Я уже не дышу.
В следующую секунду ноги судорожно дергаются, и я сползаю со стула. Хватаюсь руками за горло. Я уже на ногах – смотрю на расписанный потолок. Глаза закатились. Нижняя челюсть вышла вперед.
Денни подцепляет брокколи у меня с тарелки и говорит:
– Дружище, ты переигрываешь.
Может быть, это будет восемнадцатилетний помощник официанта или парень в вельветовых брюках и свитере с высоким воротом – для кого-то из этих людей я стану сокровищем. На всю оставшуюся жизнь.
Люди уже начали вставать с мест.
Может быть, эта женщина в корсаже.
Может быть, этот мужчина в очках в тонкой оправе.
В этом месяце я получил уже три открытки с днем рождения, хотя не прошло еще и половины месяца. В прошлом месяце было четыре открытки. В позапрошлом – шесть. Я даже не помню большинство из этих людей. Но они меня помнят, Боже их благослови.
Мне нечем дышать, вены на шее вздулись. Лицо наливается кровью. На лбу выступает испарина. На спине на рубашке расплывается пятно пота. Я сжимаю шею руками – международный жест, означающий: я задыхаюсь. Некоторые из тех, от кого я получаю открытки, даже не говорят по-английски.
В первые пару секунд все ждут, что кто-то другой ломанется вперед и станет героем.
Денни берет у меня с тарелки оставшуюся половину бифштекса.
По-прежнему сжимая руками горло, я пинаю его по ноге.
Делаю вид, что пытаюсь сорвать галстук.
Судорожно расстегиваю воротник.
И Денни говорит:
– Эй, мне же больно.
Помощник официанта испуганно пятится. Он никакой не герой.
Скрипач и распорядитель по винам уже мчатся ко мне, голова в голову.
С другого конца зала ко мне пробивается женщина в черном коротком платье. Спешит на помощь.
Мужчина сбрасывает смокинг и тоже несется ко мне. Где-то истошно кричит женщина.
Обычно все происходит очень быстро. Минуту, две – максимум. Что не может не радовать: я спокойно могу не дышать около двух минут, но не больше.
Если б я мог выбирать спасителя, из практических соображений я бы выбрал пожилого мужчину с золотыми часами – он наверняка заплатил бы по нашему счету. Но из личных симпатий я бы выбрал женщину в черном коротком платье – у нее роскошная грудь.
Но даже если нам придется расплачиваться самим… для того, чтобы получить деньги, надо деньги сначала вложить.