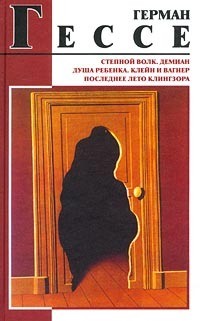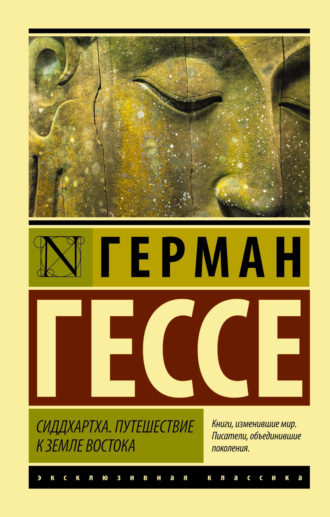
Полная версия
Сиддхартха. Путешествие к земле Востока (сборник)
«Как я был глух и бесчувствен! – думал резво шагающий путник. – Когда человек читает манускрипт, стремясь доискаться его смысла, он не пренебрегает знаками и буквами, не зовет их обманом, случайностью и бесполезной оболочкой, нет, он вчитывается в них, изучает их и любит, букву за буквой. А я, желавший прочесть книгу мира и книгу собственного моего существа, я в угоду предвзятому смыслу отверг знаки и буквы, звал мои глаза и мой язык случайными и бесполезными явлениями. Нет, это миновало, я пробудился, я в самом деле пробудился и лишь сегодня рожден».
Думая эту думу, Сиддхартха опять остановился, внезапно, будто перед ним лежала на тропе змея.
Ибо ему внезапно открылось еще одно: он, в самом деле как бы пробудившийся и новорожденный, он должен начать жизнь вновь, и с самого начала. Когда в это самое утро он покидал рощу Джетавана, рощу Возвышенного, уже пробуждаясь, уже на пути к себе, он намеревался – и считал это свое намерение естественным и нормальным – после долгих лет аскезы воротиться в родные края, к отцу. Теперь же, вот в этот самый миг, когда остановился, будто увидав на тропе змею, он пробудился и к пониманию следующего: «Я уже не тот, что прежде, я не аскет более, не жрец, не брахман. Что же делать мне в родном доме, у отца моего? Учиться? Творить жертвоприношения? Погружаться в медитацию? Все это миновало, все это уже в стороне от моего пути».
Недвижимо стоял Сиддхартха, и на одно мгновенье, на один вздох сердце его похолодело, он почувствовал, как оно холодеет в груди, точно маленькое живое существо, птичка или зайчонок, когда он увидел свое одиночество. Годами он был одинок и не чувствовал этого. И вот теперь почувствовал. До сих пор, даже в глубочайшей отрешенности, он был сыном своего отца, был высокородным брахманом, духовным лицом. Теперь же он был только Сиддхартхой, только пробужденным, и не более. Он глубоко вздохнул и на мгновенье похолодел и вздрогнул. Никто не был столь одинок, как он. Ведь нет такого аристократа, что не принадлежал бы к знати, нет такого ремесленника, что не принадлежал бы к ремесленникам и не имел бы прибежища у своих, не делил с ними жизнь, не говорил их языком. Нет такого брахмана, что не относился бы к числу брахманов и не жил бы с ними, нет такого аскета, что не имел бы прибежища в монашеском сословии, и даже самый сирый отшельник в лесу не был один как перст, даже его окружали родственные души, даже он принадлежал к некоему сословию, которое было для него родным. Говинда стал монахом, и тысячи монахов были ему братьями, носили его одежду, верили его верой, говорили его языком. А он, Сиддхартха, где найдет он свое братство? Чью жизнь разделит? Чьим языком станет говорить?
Из этого мгновения, когда мир вокруг него исчез, когда он стоял один, как звезда в небе, из этого мгновения холода и робости Сиддхартха вышел, еще больше окрепнув самостью, еще лучше владея собой. Он чувствовал: это была последняя дрожь пробуждения, последняя схватка рожденья. И вот он снова зашагал, резво и нетерпеливо, уже не домой, не к отцу, не вспять.
Часть вторая
Камала
На каждом шагу своего пути Сиддхартха узнавал новое, ведь мир преобразился, и сердце его было околдовано. Он видел, как солнце встает над лесистыми хребтами и садится над далеким, поросшим пальмами прибрежьем. Ночью он видел на небе россыпи звезд и месяц, лодкой плывущий в синеве. Видел деревья, звезды, животных, облака, радугу, скалы, душистые травы, ручьи и реки, взблеск росы в кустах поутру; вдали блекло голубели горные вершины, щебетали птицы и жужжали пчелы, ветер колыхал серебристые волны рисовых полей. Все это тысячеликое многоцветье существовало от веку – от веку светили солнце и луна, от веку жужжали пчелы и шумели реки, но прежде все это казалось Сиддхартхе не более чем эфемерной и обманчивой дымкой, которая застит взор, внушает недоверие и назначена для того, чтобы пронизать ее мыслью и уничтожить, ибо все это лишено сущности, ибо сущность лежит по ту сторону зримого. Теперь же его освобожденный взор пребывал по сю сторону, он видел и узнавал зримое, искал свое отечество в этом мире, но не искал сущности, не целил в потустороннее. Мир был прекрасен, если смотреть на него вот так – ничего не ища, просто, по-детски. Прекрасны были луна и звезды, прекрасны ручьи и берега, леса и скалы, козы и жуки-златки, цветы и бабочки. Прекрасно и отрадно было вот так идти по этому миру – ребенком, пробудившимся, доверчивым ребенком, открытым для всего, что рядом. По-иному палило голову солнце, по-иному обвевала прохладой тень, иной вкус был у воды в ручье и в бочке, иной – у тыквы и банана. Коротки были дни, коротки ночи, и каждый час быстро ускользал прочь, словно парус в море, а под парусом корабль, полный сокровищ, полный утех. Сиддхартха видел обезьяний народ, снующий высоко под сводом леса, высоко в ветвях, и слышал дикарский, алчный напев. Видел, как баран, догнав, покрывает овцу. Видел, как под вечер охотится в тростниковом озере голодная щука, как перед нею с перепугу стайками выскакивают из воды, трепеща и поблескивая, рыбешки-недоростки; силой и страстью разило от стремительных водных вихрей, вздымаемых неистовой охотницей.
Все это существовало от веку, а он этого не видел; его при этом не было. Теперь же он был здесь и участвовал во всем. Его глаза вбирали свет и тень, сквозь его сердце проплывали звезды и луна.
По дороге Сиддхартха вспоминал и все то, что пережил в садах Джетаваны, вспоминал услышанную там проповедь, божественного Будду, прощание с Говиндой, беседу с Возвышенным. Вспоминал собственные свои слова, обращенные к Возвышенному, вспоминал каждое слово и с удивлением уяснил себе, что сказал много такого, чего тогда еще толком не понимал. Ведь он сказал Готаме: его, Будды, сокровище и тайна не учение, не проповедь, а то невыразимое и неисповедимое, что он пережил и познал некогда в миг просветления, – именно это хотел теперь познать и он, Сиддхартха, затем и отправился в путь, именно это и начал сейчас познавать. Познать же он должен себя самого. Конечно, он уже давно понял, что его самость – атман, по природе своей столь же вечный, сколь и Брахман. Но никогда он не обретал по-настоящему этой самости, потому что хотел поймать ее неводом мысли. И не тело, конечно, было самостью, и не игра чувственных восприятий, но ведь точно так же не были ею ни мысли, ни разум, ни приобретенная мудрость, ни приобретенное искусство делать выводы и сплетать из старых мыслей новые. Да, этот мир идей находился тоже по сю сторону, и незачем было умерщвлять случайное «я» чувственных восприятий и пестовать взамен случайное «я» мыслей и ученостей. То и другое – мысли и чувственные восприятия – было по-своему замечательно, за тем и другим таился последний смысл, вслушиваться надлежало в то и другое, играть тем и другим, ни то, ни другое не презирать и не ценить сверх меры, различать в том и другом тайные голоса сокровеннейшего. И стремиться он будет лишь туда, куда велит этот голос, и сосредоточиваться лишь на том, что советует этот голос. Отчего Готама некогда, в тот великий час, уселся под деревом Бодхи, где на него низошло просветление? Он услышал голос, голос внутри своего сердца, который повелел ему сделать привал под этим деревом, и он не отдал предпочтения ни умерщвлению плоти, ни жертве, ни омовению или молитве, ни еде, ни питью, ни сну, ни грезам – нет, он внял голосу. Вот такая послушливость – не веленью извне, а одному только этому голосу, – вот такая готовность была правильной и необходимой, более ничего и не требовалось.
Ночевал Сиддхартха у реки, в крытой соломою хижине перевозчика, и приснился ему Говинда, в желтых одеждах аскета. Печальным выглядел Говинда, печально вопросил он: почему ты покинул меня? Тогда он обнял Говинду, обвил его руками и, привлекши к своей груди и целуя, увидел, что это уже не Говинда, а женщина, и из платья ее выпросталась полная грудь, и к ней припал Сиддхартха и пил – сладостным и хмельным на вкус было молоко этой груди. Вкус его напоминал о женщине и о мужчине, о солнце и о лете, о животных и о цветах, о любых плодах, о любых удовольствиях. Оно пьянило и дурманило… Когда Сиддхартха проснулся, за дверью хижины тускло серебрилась река, а в лесу гулко звучал басовитый крик совы.
Когда настал день, Сиддхартха попросил своего благодетеля, перевозчика, свезти его на тот берег. И перевозчик на своем бамбуковом плоту переправил его через реку, и широкий водный простор розовел в утренних лучах.
– Красивая река, – сказал Сиддхартха своему спутнику.
– Да, – молвил в ответ перевозчик, – очень красивая, я люблю ее больше всего на свете. Часто я слушал ее, часто смотрел ей в глаза и всегда учился у нее. У реки можно многому научиться.
– Спасибо тебе, милостивец, – сказал Сиддхартха, выйдя на берег. – Нечем мне одарить тебя за гостеприимство, мой дорогой, нечем и заплатить. Я бесприютный сын брахмана и подвижник-монах.
– Я это заметил, – отозвался перевозчик, – и не ждал от тебя ни платы, ни подарка. Ты сделаешь мне подарок в другой раз.
– Ты так думаешь? – весело воскликнул Сиддхартха.
– Конечно. Я и это узнал от реки: все возвращается! Вернешься и ты, самана. А теперь прощай! Пусть уплатой мне будет твоя дружба. Вспоминай обо мне, когда будешь творить жертвы богам.
С улыбкой расстались они. С улыбкой радовался Сиддхартха дружеству и дружелюбию перевозчика. «Он как Говинда, – с улыбкой думал юноша, – все, кого я встречаю на моем пути, похожи на Говинду. Все благодарны, хотя благодарность причитается им, а не мне. Все стараются угодить, все хотят добрых отношений, охотно уступают, мало думают. Дети – вот кто эти люди».
К полудню он добрался до какой-то деревни. На улочке перед глинобитными хижинами возились дети, играли тыквенными семечками и ракушками, кричали и дрались, но все робели и сторонились чужого саманы. На краю деревни дорога вела через ручей, а у ручья, стоя на коленях, молодая женщина стирала белье. Когда Сиддхартха поздоровался с нею, она подняла голову и с улыбкой взглянула на него, даже белки глаз сверкнули. Как подобает страннику, он послал ей через ручей благословение и спросил, далеко ли еще до большого города. Тут она встала и подошла к нему, красиво алел на юном лице ее влажный рот. Она обменялась с ним шутливыми словами, спросила, ел ли он уже и правда ли, что саманы ночуют в лесу одни и не вправе иметь подле себя женщин. При этом она поставила свою левую ногу на его правую и сделала некое движение, каким у женщин принято приглашать мужчину к любовным утехам, что именуются в учебниках лазаньем на дерево. Сиддхартха почувствовал, как у него закипает кровь, а поскольку в этот миг опять вспомнил давешний сон, то слегка наклонился к женщине и поцеловал коричневый кончик ее груди. Подняв взгляд, он увидел, что улыбка ее полна желания, а сузившиеся глаза мерцают мольбой и истомой.
И Сиддхартха тоже почувствовал желание, почувствовал, как шевельнулось в причинном месте; но поскольку он никогда еще не прикасался к женщине, то чуть помедлил, хотя руки его уже тянулись к ней. И в этот миг он с ужасом услыхал голос своего сокровенного, услыхал его «нет». И тут улыбающееся лицо юной женщины потеряло все свое обаяние, теперь он видел только влажный взгляд самки. Ласково погладив ее по щеке, он отвернулся от разочарованной и легкими шагами скрылся в бамбуковой роще.
Под вечер он добрался до большого города и возрадовался, ибо жаждал общества. Долго жил он в лесах, и крытая соломой хижина перевозчика, в которой он провел сегодняшнюю ночь, впервые с давних пор подарила ему кров.
На городской окраине, возле обнесенной оградою рощи, страннику встретилась небольшая процессия челяди, нагруженной корзинами. Посредине, в изукрашенном паланкине, несомом четверкой слуг, на алых подушках под пестрым балдахином сидела женщина, их госпожа. Сиддхартха остановился у входа в сад, наблюдая за процессией, глядя на прислужников и прислужниц, на корзины, на паланкин, на даму в паланкине. Черные волосы ее были уложены в высокую прическу, лицо белое, точеное, очень умное, рот нежный, алый, как только что сорванная смоква, брови холеные, подведенные высокой дугою, темные глаза светились умом и настороженностью, высокая белоснежная шея выступала из зеленого с золотом наряда, белые руки, узкие, с длинными пальцами, покоились на коленях, запястья перехвачены широкими золотыми браслетами.
Сиддхартха любовался ее красотой, и сердце его смеялось. Когда паланкин был уже близко, он склонился в глубоком поклоне и, выпрямляясь, заглянул в белоснежное прекрасное лицо, мгновенье читал в умных глазах под высокими дугами бровей, вдохнул неведомый аромат. С улыбкой кивнула красавица ему в ответ, мгновенье – и она исчезла в саду, а за нею и вся челядь.
«Вот так вхожу я в этот город, – думал Сиддхартха, – под благим знаком». Его тянуло немедля войти в сад, но он опамятовался и лишь теперь осознал, как смотрели на него челядинцы у входа, как презрительно, как недоверчиво, как враждебно.
«Я пока еще самана, – думал он, – пока еще аскет и попрошайка. Нельзя мне оставаться таким, нельзя таким войти в сад». И он рассмеялся.
Первого же встречного спросил он о роще и об имени женщины и узнал, что это сад Камалы, знаменитой куртизанки, и что, кроме рощи, у нее есть дом в городе.
Засим Сиддхартха вошел в город. Теперь у него была цель.
Преследуя эту цель, он позволил городу поглотить себя, плыл в потоке улиц, останавливался на площадях, отдыхал на каменных ступенях у реки. К вечеру он сдружился с неким подручным цирюльника, которого видел за работой под сенью арки, а потом встретил за молитвою в храме Вишну, и рассказал ему истории о Вишну и Лакшми. Заночевал он возле лодок, у реки, а рано утром, прежде чем в цирюльню явились первые клиенты, новый знакомец сбрил ему бороду, постриг волосы, причесал их и умастил благовонным маслом. Потом Сиддхартха омылся в реке.
Когда же перевалило за полдень и красавица Камала отправилась в паланкине в свой сад, у входа стоял Сиддхартха, он поклонился, и куртизанка ответила поклоном. А тому челядинцу, что был последним в процессии, он сделал знак подойти ближе и попросил доложить госпоже, что молодой брахман желает поговорить с нею. Через некоторое время слуга вернулся, пригласил ожидающего войти, молча проводил его в павильон, где на диване возлежала Камала, и оставил их наедине.
– Не ты ли и вчера стоял у входа и приветствовал меня? – спросила Камала.
– Да, я еще вчера видел тебя и приветствовал.
– Но ведь вчера ты был с бородой, и с длинными волосами, и с пылью в волосах?
– А ты наблюдательна и все разглядела. Ты видела Сиддхартху, сына брахмана, который покинул родные края, чтобы стать подвижником-саманой, и три года был им. Теперь же я оставил эту стезю и пришел сюда, в город, и первая, кто встретилась мне под его стенами, была ты. Чтобы высказать это, я и пришел к тебе, о Камала! Ты первая женщина, с которой Сиддхартха говорит, не потупляя взора. И никогда более я не опущу глаз, встретив красивую женщину.
Камала улыбнулась, играя веером из павлиньих перьев. И спросила:
– В самом ли деле Сиддхартха пришел ко мне, только чтобы это высказать?
– Да, чтобы это высказать и поблагодарить тебя за то, что ты так прекрасна. И если ты не против, я хотел бы просить тебя: стань моей подругой и наставницей, ибо я ничего пока не знаю об искусстве, в котором ты достигла мастерства.
Громко рассмеялась Камала:
– Никогда до сих пор не бывало, друг мой, чтобы самана из лесу пришел ко мне и желал учиться у меня! Никогда до сих пор не бывало, чтобы пришел ко мне самана, длинноволосый, в старой дырявой повязке на бедрах! Много юношей приходят ко мне, есть среди них и сыновья брахманов, но приходят они в красивых одеждах, изящных сандалиях, с благовониями в волосах и деньгами в кошельке. Вот, о самана, каковы юноши, что приходят ко мне.
И молвил Сиддхартха:
– Я уже начинаю учиться у тебя. И вчера тоже кой-чему научился. Я уже сбрил бороду, причесал волосы, умастил их благовонным маслом. Лишь малого недостает мне, о прелестнейшая: красивых одежд, изящных сандалий, денег в кошельке. Знай же, Сиддхартха брался за куда более трудные дела, чем эти пустяки, и добивался успеха. Так разве не добьюсь я того, что задумал вчера: стать твоим другом и познать от тебя радости любви! Ты увидишь, я прилежный ученик, Камала, я постигал куда более трудное, нежели то, чему будешь учить меня ты. Итак, Сиддхартха – такой, каков он есть: с благовониями в волосах, но без одежды, без сандалий, без денег, – не удовлетворяет тебя?
Смеясь, воскликнула Камала:
– Нет, дорогой мой, пока не удовлетворяет. Ему необходима одежда, нарядная одежда, и сандалии, нарядные сандалии, и много денег в кошельке, и подарки для Камалы. Ну, теперь ты понял, самана из леса? Теперь запомнил?
– Конечно, запомнил! – вскричал Сиддхартха. – Как же не запомнить то, что произносят такие уста! Твои уста, Камала, как свежая смоква. И мои уста алы и свежи, под стать твоим, вот увидишь… Но скажи, красавица Камала, неужели ты совсем не боишься лесного саманы, что пришел учиться любви?
– А почему я должна бояться какого-то саманы, глупого лесного подвижника, что пришел от шакалов и знать еще не знает, что такое женщина?
– О, он сильный, этот самана, и ничего не страшится. Он мог бы принудить тебя, прекрасная дева. Мог бы тебя украсть. Причинить тебе боль.
– Нет, самана, этого я не боюсь. Разве подвижник или брахман боялся когда-нибудь, что придет некто, и схватит его, и украдет у него ученость, и набожность, и глубокомыслие? Нет, они принадлежат ему неотъемлемо, и он может лишь поделиться ими, отдать столько, сколько пожелает, и тому, кому пожелает. Вот так в точности обстоит и с Камалой, и с утехами любви. Прекрасны и алы уста Камалы, но попробуй поцеловать их вопреки ее желанию, и ты не вкусишь ни капли их сладости, а ведь они умеют дать так много услады! Ты прилежен в ученье, Сиддхартха, усвой же и это: любовь можно вымолить, купить, получить в дар, найти на улице, но украсть ее нельзя. Тут ты избрал себе ложный путь. Н-да, жаль, когда красивый юноша вроде тебя приступает к делу до такой степени неправильно.
Сиддхартха с улыбкой поклонился.
– И вправду жаль, Камала, ты совершенно права! Очень жаль. Нет уж, ни капли сладости твоих уст не должно пропасть для меня втуне, а для тебя – моих! Стало быть, порешим так: Сиддхартха вернется, когда у него будет недостающее – одежда, сандалии, деньги. Но скажи, прелестная Камала, не дашь ли ты мне на прощанье маленький совет?
– Совет? Отчего же, дам. Кто откажет в совете бедному, невежественному самане, который пришел от лесных шакалов?
– Так посоветуй же мне, дорогая Камала, куда я должен пойти, чтобы поскорее обрести эти три вещи?
– Многие хотели бы это знать, друг мой. Делай то, чему ты научился, и пусть тебе дают за это деньги, одежду и сандалии. Что же ты умеешь?
– Я умею размышлять. Умею ждать. Умею поститься.
– И больше ничего?
– Ничего. Хотя нет, еще я умею слагать стихи. Подаришь мне поцелуй за стихотворение?
– Подарю, если твои стихи мне понравятся. Каково их название?
Сиддхартха с минуту подумал и произнес такие стихи:
Прекрасная вошла в тенистый сад Камала,У входа в сад стоял темный ликом самана.Завидев дивный лотоса бутон, глубокоОн поклонился, и кивнула с улыбкою Камала.Милее, юноша думал, чем жертву творить богам,Милее жертву сложить к ногам прекраснойКамалы.Громко захлопала в ладоши Камала, золотые браслеты так и зазвенели.
– Хороши твои стихи, темный ликом самана, и поистине я ничего не потеряю, если дам тебе за них поцелуй.
Взглядом призвала она его к себе, он наклонил к ней лицо и коснулся губами ее губ, свежих, как только что сорванная смоква. Долго целовала его Камала, и с глубоким изумлением чувствовал Сиддхартха, как она учит его, как она мудра, как она властвует им, отталкивает его и притягивает и как выстраивается за этим первым поцелуем длинная, ровная, проверенная вереница других, грядущих поцелуев, непохожих один на другой. Глубоко дыша, он замер и был в это мгновенье как ребенок изумлен полнотою знания, которое открылось его взору и было так достойно постижения.
– Очень хороши твои стихи, – воскликнула Камала, – будь я богата, я бы дала тебе за них золота. Но стихами трудно заработать такие большие деньги, какие нужны тебе. Ибо, если ты хочешь стать другом Камалы, тебе понадобятся большие деньги.
– Как же ты умеешь целовать, Камала! – пролепетал Сиддхартха.
– Да, это я умею, вот почему у меня в достатке и платьев, и сандалий, и прочих красивых вещей. Но что станется с тобою? Неужели ты только и умеешь, что размышлять, поститься, слагать стихи?
– Еще я знаю жертвенные песнопения, – сказал Сиддхартха, – но мне больше не хочется их петь. И заклинания знаю, но мне больше не хочется их читать. Я читал священные книги…
– Погоди, – перебила его Камала. – Ты умеешь читать? И писать?
– Конечно. Не один я умею.
– Большинство не умеет. И я не умею. Очень хорошо, что ты умеешь читать и писать, очень хорошо. Да и заклинания тоже могут пригодиться.
В этот миг вбежала прислужница и шепотом сообщила что-то на ухо госпоже.
– Ко мне пришли, – воскликнула Камала. – Поспеши исчезнуть, Сиддхартха, никто не должен тебя здесь видеть, запомни! Завтра мы увидимся вновь.
Прислужнице она, однако ж, приказала дать набожному брахману белую верхнюю накидку. Сам не зная как, Сиддхартха следом за прислужницей выбрался из павильона, и она окольной дорогой прошла с ним в садовый домик, подарила накидку, затем вывела в заросли и настоятельно призвала поскорее незаметно удалиться.
Удовлетворенный, он сделал как велено. Будучи привычен к лесу, он бесшумно через живую изгородь выскользнул из сада. Удовлетворенный, вернулся в город, неся под мышкой свернутую накидку. На постоялом дворе, где останавливались проезжающие, он стал у двери, молча попросил поесть, молча принял кусок рисового пирога. Может быть, уже завтра, думал он, я никого не попрошу более о пропитании.
Внезапно в нем вспыхнула гордость. Он больше не самана, и негоже ему теперь просить милостыню. Он отдал пирог собакам, а сам остался без пищи.
«Проста жизнь в этом мире, – думал Сиддхартха. – Нет в ней трудностей. Когда я был саманой, все оказывалось трудно, утомительно и в конечном счете безнадежно. А теперь все легко, как уроки поцелуев, которые мне дает Камала. Я нуждаюсь в деньгах и одежде, и только, а это мелкие ближние цели, сну они не помеха».
Он давно разузнал, где находится городской дом Камалы, и на следующий день пришел туда.
– Все хорошо! – крикнула она ему навстречу. – Тебя ждут у Камасвами, он самый богатый купец в этом городе. Если ты ему понравишься, он возьмет тебя на службу. Будь умен, темный ликом самана. Я попросила, чтобы ему рассказали о тебе. Будь приветлив с ним, ибо человек он весьма могущественный. Но не скромничай сверх меры! Я не хочу, чтобы ты стал его слугой, ты должен стать ему ровней, иначе я буду недовольна. Камасвами понемногу стареет и делается ленив. Если ты ему потрафишь, он многое тебе доверит.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Авторская аллюзия на Мундака-упанишаду (II:2). – Примеч. пер.